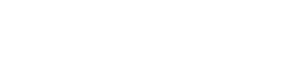С.Строев. ЦИВИЛИЗАЦИЯ КОМФОРТА ПРОТИВ МИРА ЖЕРТВЫ

Есть культурные феномены, перед лицом которых современный (в смысле не столько современности своего бытия во времени, сколько принадлежности к современному менталитету) человек останавливается в полном недоумении.
Возьмём, к примеру, государство астеков (или в другом варианте транслитерации – ацтеков), которое на протяжении своей истории вело практически непрерывные войны преимущественно не ради грабежа, захвата земли и рабов, а ради пленников для масштабных человеческих жертвоприношений. С завидной регулярностью у тысяч людей на специально возведённых пирамидах-теокали вырезали сердце, а их тела сбрасывались вниз. Причём, это, с точки зрения современного человека, варварство было не разовым эпизодом (как у древних римлян, германцев, скандинавов или славян), а настоящей массовой индустрией, интересам которой в известной мере служила вся государственная система, обеспечивающая нескончаемый поток жертв. Согласно представлениям самих астеков это практически непрерывное массовое жертвоприношение было абсолютно необходимо для поддержания, своего рода «питания» Солнца и мироздания в целом. Без регулярного жертвоприношения сила Солнца иссякнет, устойчивость мирового порядка нарушится, и жизнь перестанет воспроизводиться.
Что скажет на это современный человек? Он «объяснит» всё дело непроходимой умственной отсталостью и дремучим суеверием астеков и найдёт тому исчерпывающее доказательство. Мол, вот не приносим жертв – а Солнце не гаснет, Луна на землю не падает и мир не переворачивается. А если и перевернётся – то уж, конечно, не по причине отсутствия жертвоприношений. Потому что принесение людей в жертву уж точно не может физически влиять на процессы термоядерного синтеза в недрах Солнца. В общем, не были бы астеки такими дураками – так не множили бы страдания и не тратили бы сил на цветочные войны и возведение жертвенных пирамид, а обеспечили бы себе тот минимум комфорта, который можно обеспечить без автомобилей, электрогрилей и бесценного стирального порошка, в высшей ценности коего нас с утра до вечера убеждает телереклама.
Так мог бы, пожалуй, рассудить современный человек ещё лет тридцать-сорок назад – то есть до того, как утратил за ненадобностью способность думать вовсе. И, разумеется, ему и в голову бы не пришло задуматься о том, что Божественное Солнце, которому поклонялись астеки и которое ценой кровавых жертв удерживало в равновесии их мироздание, не тождественно тому нагретому термоядерными реакциями газовому облаку с известными физическими параметрами, которое под именем Солнца имеет в своём мире современный человек. Иными словами, Солнце представляет собой не только и не столько комплекс непосредственных физических ощущений, сколько феномен коллективного сознания, т. е. определённым образом осмысленную в рамках общей картины мира реальность. И в этом смысле божественное Солнце астеков действительно погасло, а мир, в котором они жили, погиб.
Но стоит ли думать, что астеки были здесь каким-то исключением? Куда бы мы ни бросили взгляд – будь то колоссальные пирамиды Египта или ритуальный потлач индейцев – мы везде увидим деятельность, подчинённую не рациональным прагматическим резонам, а культовой практике, в основании которой лежит принесение жертвы. С прагматической точки зрения – абсолютно бессмысленное. Потому что вопреки мнению современного человека, пытающегося хоть как-то подогнать непонятное ему поведение под свою мерку, смысл жертвы вовсе не сводился к попытке «примитивного суеверного дикаря» что-то получить от своих богов. То есть не был попыткой рыночного обмена с вымышленными существами.
В связи с этим приведём несколько весьма ценных и иллюстрирующих суть дела отрывков из книги индолога Алексея Владимировича Пименова «Возвращение к Дхарме»:
«Слово «пуруша» можно перевести по-разному. Оно может означать «человек», «мужчина», «дух» — в зависимости от контекста. В данном случае оно означает мифологического героя – первого человека на Земле. Этот первочеловек был так велик, что занимал все пространство. <…> Это грандиозное существо становится материалом, из которого боги творят мир. Делают они это, как и подобает ведийским богам, в точном соответствии с традицией – посредством жертвоприношения. В жертву приносится, разумеется, Пуруша. Этот обряд изображается как «первообраз», эталон всех обрядов, которые когда-либо будут совершаться на свете. Жертва не адресована никакому конкретному божеству: боги приносят ее ради неё самой, создавая прецедент на вечные времена и утверждая дхарму – закон, управляющий миром. <…> Всё сущее возникает в результате этого космического жертвоприношения. <…> Сами правила принесения жертв рождаются в ходе «праобряда». <…> Кульминация этой великой жертвы наступает, однако, когда тело Пуруши подвергается расчленению. Теперь, создав «животных, у которых два ряда зубов» – быков, коз и овец, боги переходят к созданию человека – точнее, человеческого общества».
«Нельзя, разумеется, сказать, что грань между богами и людьми вообще отсутствует, но она, несомненно, является зыбкой и подвижной. И самое важное обстоятельство, роднящее богов с людьми, связано с ритуалом: боги, так же как и люди, приносят жертвы. Примечательно, что именно боги-жрецы пользовались у индоариев особенной популярностью: им посвящено наибольшее число ведийских гимнов».
«Если успех обряда зависит главным образом от «внутренней Жертвы», творимой брахманом, то отсюда совсем недалеко до представления о том, что брахман посредством своей искусной ритуальной техники может просто-напросто заставить божество сделать то, чего хочет заказчик. <…> В свете всех этих особенностей ведийской ритуальной практики нас не должны удивлять некоторые «крайности» позднейшей индийской философии — представления о том, что божества, изображаемые и восхваляемые в Ведах, просто-напросто не существуют или, точнее, существуют лишь в качестве слов, произносимых во время обряда. Ритуальная церемония имеет, таким образом, значение не как средство обращения куда-то «вовне», но сама по себе подобна магическому действию».
«А коль скоро с помощью обрядов древние индийцы стремились решать самые важные, самые насущные жизненные задачи, не стоит удивляться ни тому, что «внутренняя жертва» Брахмана в конце концов стала рассматриваться ими как универсальный ключ ко всякой проблеме человеческого существования, ни тому, что сами слова, обозначающие детали обряда, его участников, цель, вспомогательные средства и т. д., превратились в универсальный, пригодный для рассказа о чем угодно, для осмысления любого явления в мире. Да и сам космос виделся приверженцам брахманистской религии как огромное вселенское жертвоприношение. И если уже в Пурушасукте можно обнаружить картину «начала мира» как жертвоприношения, то в Упанишадах предметом такого толкования становится человеческая жизнь».
Эту идею А.В. Пименов иллюстрирует фрагментом из Чхандогья-упанишады:
«Поистине, Гаутама, тот мир – огонь. Солнце – его дрова, его дым – солнечные лучи, его пламя – день, его угли – луна, его искры – звёзды. В этот огонь небожители льют благочестие как жертву. Из этой льющейся жертвы рождается царь Сома. Поистине, Гаутама, грозовой ливень – это огонь. Ветер – его дрова; облака – его дым; молния – его пламя, удары молнии – его угли, град – его искры. В этот огонь небожители льют царя Сому как жертву. Из этой льющейся жертвы рождается муссонный дождь. Поистине, Гаутама, земля – это огонь. Год – его дрова, пространство – его дым, ночь – его пламя, стороны света – его угли, промежутки между ними – его искры. В этот огонь небожители льют муссонный дождь как жертву. Из этой льющейся жертвы рождается пища. Поистине, Гаутама, мужчина – это огонь. Речь – его огонь, дыхание – его дым, язык – его пламя, глаза – его угли, слух – его искры. В этот огонь небожители льют пищу как жертву. Из этой льющейся жертвы рождается семя. Поистине, Гаутама, женщина – это огонь. Лоно – её дрова, соблазнительная речь – её дым, вульва – её пламя, то, что вводит в неё мужчина, – её угли; страсть – её искры. В этот огонь небожители льют семя как жертву. Из этой льющейся жертвы рождается плод. <…> После того, как этот плод, укутанный в пуповину, пролежит десять месяцев – или сколько бы ни пролежал, – он рождается. После того, как он родится, он живет, пока не кончится его срок. Потом, когда он умирает и уходит отсюда, его бросают в огонь, из которого он появился на свет, в огонь, из которого ему надлежит рождаться».
Таким образом, жертвоприношение предстаёт не частным способом суеверного дикаря умилостивить конкретное божество, чтобы получить от него конкретную пользу или избежать вреда, а универсальным и самоценным способом бытия, которому подчинены и сами «боги», если они вообще есть. Жертвоприношение оказывается не формой обращения человека к тому или иному языческому богу, но высшей самоценностью – универсальной реализацией бытия, что прекрасно иллюстрируется ведической формулой:
«Жертвою боги жертвовали жертве. Это были первые дхармы».
Эта ведическая формула имеет колоссальное значение для понимания сути дела. Совершая жертвоприношение, боги приносят жертву самой жертве, устанавливая тем самым общие принципы и законы (дхармы) бытия. Индусам принадлежит здесь несомненная честь максимально полного интеллектуального выражения и изъяснения универсальных принципов, на которых стоит, в сущности, любая «естественная» религия, то есть такая религия, которая вырастает «снизу вверх» – из коллективного осмысления человечеством ограниченности собственного бытия и необходимости трансцендентного по отношению к миру начала.
В иных «языческих» религиях такое сознание присутствует в гораздо более смазанном, неотрефлексиованном и имплицитном виде. Тем не менее, в уже упомянутом языческом жертвоприношении астеков несложно различить тот же мотив – принесение жертвы не ради ублажения тех или иных богов, а ради поддержания обновления и воспроизводства круговорота жизни в мироздании. Смерть через жертву оказывается здесь необходимым условием циклического воспроизводства жизни, жертвенная кровь животворит мироздание. Как пел когда-то Виктор Цой: «Красная, красная кровь – / Через час уже просто земля, / Через два на ней цветы и трава, / Через три она снова жива / И согрета лучами Звезды / По имени Солнце… ».
Другой яркий пример, иллюстрирующий природу жертвы – германо-скандинавский миф об Одине, который для того, чтобы постичь руны, пронзил себя своим копьём Гунгнир и, прибив им себя к стволу Мирового Дерева Иггдрасиль, провисел в его ветвях с верёвкой на шее 9 дней: «Знаю, висел я / в ветвях на ветру / девять долгих ночей, / пронзенный копьем, / посвященный Одину, / в жертву себе же, / на дереве том, / чьи корни сокрыты / в недрах неведомых. / Никто не питал, / никто не поил меня, / взирал я на землю, / поднял я руны, / стеная их поднял — / и с древа рухнул» (Речи Высокого, 138–139). Вновь обратим внимание на то, что обретение мудрости и знания осуществляется здесь путём самоистязания, т. е. принесения себя в жертву. Однако здесь вообще нет внешнего по отношению к жертвователю лица или персонажа, которому бы эта жертва приносилась, и которое бы даровало знания в обмен на неё. Жертва абсолютно безлична и является не способом обращения к кому-либо, а самостоятельно и безлично действующим способом обретения знания.
Кстати, у тех же германцев и скандинавов сохранился и миф о творении мира из принесённого в жертву великана Имира, аналогичного ведическому Пуруше: «Тогда спросил Ганглери: «Как же поладили они меж собою? И кто из них оказался сильнее? ». Так отвечает Высокий: «Сыновья Бора убили великана Имира. А когда он пал мертвым, вытекло из его ран столько крови, что в ней утонули все инеистые великаны. <…> Сказал тогда Ганглери: »За что же принялись тогда сыновья Бора, если они были, как ты думаешь, богами? «. Высокий сказал: »Есть тут о чем поведать. Они взяли Имира, бросили в самую глубь Мировой Бездны и сделали из него землю, а из крови его — море и все воды. Сама земля была сделана из плоти его, горы же из костей, валуны и камни — из передних и коренных его зубов и осколков костей«. Тогда молвил Равновысокий: »Из крови, что вытекла из ран его, сделали они океан и заключили в него землю. И окружил океан всю землю кольцом, и кажется людям, что беспределен тот океан и нельзя его переплыть«. Тогда молвил Третий: »Взяли они и череп его и сделали небосвод. И укрепили его над землей, загнув кверху ее четыре угла, а под каждый угол посадили по карлику. Их прозывают так: Восточный, Западный, Северный и Южный. Потом они взяли сверкающие искры, что летали кругом, вырвавшись из Муспелльсхейма, и прикрепили их в середину неба Мировой Бездны, дабы они освещали небо и землю. Они дали место всякой искорке: одни укрепили на небе, другие же пустили летать в поднебесье, но и этим назначили свое место и уготовили пути. И говорят в старинных преданиях, что с той поры и ведется счет дням и годам, как сказано о том в «Прорицании вельвы» (Младшая Эдда).
Однако является ли жертвоприношение принадлежностью лишь «язычества», лишь «естественных» религий, отвечающих состоянию человечества до или вне Откровения?
Несомненно, Православное Христианство как наиболее высшая и совершенная форма Божественного Откровения, наполняет идею жертвы и жертвоприношения новым, более высоким смыслом, однако не только не упраздняет и не умаляет его, но, напротив, утверждает и абсолютизирует её значение. Крестная Жертва Иисуса Христа, в которой Бог Сам приносит Себя в Жертву ради спасения человечества, составляет саму сущность Христианства как религии.
Кому же принесена Крестная Жертва? Нелепо было бы думать, что Она принесена Богом в качестве выкупа сатане за согрешившее и подпавшее его власти человечество. Но явно примитивна и искусственна и латинская, унаследованная также и протестантизмом, «юридическая» трактовка, в рамках которой Господь Бог якобы таким образом перед Самим Собой «оплачивает» грех человечества, как бы выкупая человечества у Самого Себя. Православие, то есть аутентичное неискажённое Христианство, признавая тайну Крестной Жертвы неизъяснимой и неисповедимой, тем не менее, в качестве приближения трактует Её как средство или способ исправления и исцеления Богом повреждённой грехом человеческой природы.
Отметим этот момент: Крестная Жертва в соответствии с православным вероучением принесена Иисусом Христом Богу-Отцу не в качестве «выкупа», юридического возмещения или средства внушить расположение, а как жертва свободного послушания и любви. Она сама по себе есть путь и способ, коим Христос как вочеловечившейся Бог восстанавливает прерванную грехопадением связь человека с Богом как источником жизни и, тем самым, спасает человечество (а через человечество и всё мироздание) от рабства греха и смерти, принимая на себя и исправляя последствия греха прародителей.
Как Крестная Жертва является основой христианской сотериологии, так непосредственно мистически с ней связанная Бескровная Жертва (Пресуществление Св. Даров и Таинство Причастия) – сущностью всей литургической практики. Не будет преувеличением сказать, что Христианство есть, прежде всего, религия Жертвы, причём в наивысшей форме и в наиболее полном и абсолютном выражении.
Однако посмотрим на христианскую практику не со стороны мистических высот, с которых Бог открывает себя человеку, а с той «приземлённой» стороны, с которой человек тянется к Богу. И что же здесь мы видим? Мы видим молитвенные правила, посты, целый ряд ограничений в удовольствиях и развлечениях. То есть целый ряд, опять-таки, жертв, которые добровольно приносит верующий.
И опять-таки, вопреки вульгарным трактовкам, смысл этих жертв вовсе не в том, чтобы «задобрить» или «ублажить» ими Бога и выкупить на них какие-то блага в земной жизни или заслужить лучшую участь в мире загробном. Православное религиозное сознание (в отличие от введших в употребление торговлю индульгенциями латинян) вполне чётко осознаёт, что сами по себе заслуги такого рода ничего не стоят. Жертва, как и в остальных случаях, является здесь не меновой ценностью, не платой или подношением в расчёте на вознаграждение, а непосредственным способом для человека раскрыть себя для усвоения изливающейся на всех, но не всеми усвояемой Благодати Божией.
Конечно, эти христианские ежедневные систематические жертвы (временем, удовольствиями, развлечениями, материальным благополучием и т. д.) не столь зрелищны как жертвоприношения древних язычников и потому для современного (безверующего) человека обычно незаметны. Но, столкнувшись с ними непосредственно в своей жизни, современный человек впадает в то же самое недоумение, выражаемое одним только словом: зачем?
Зачем чем-то без нужды жертвовать? Зачем без рациональной необходимости ограничивать себя в удовольствиях? Зачем совершать труд, от которого нет выгоды? И не найдя для себя объяснения смыслу чужих мотивов и поступков, современный человек, также как и в отношении древних культур, закрывает для себя вопрос простейшим ответом: тупость, суеверие и вековая отсталость… И, довольный своим умственным превосходством, идёт дольше созерцать рекламу сникерсов и слушать последние хиты поп-индустрии.
Впрочем, не стоит думать, что всякое атеистическое самосознание лишено жертвенности и сводится лишь к потребительству и гедонизму. Возьмём, к примеру, мотивацию красных в Гражданской войне 1917–1923 годов. Вполне очевидно, что понесённые жертвы были совершенно несообразны прагматическим интересам каждого отдельно взятого рабочего или крестьянина относительно передела собственности. То есть люди шли на жертвы не ради конкретных материальных благ, а ради идеи, причём идеи, не предполагающей личного воздаяния даже в загробном мире. В основании красного дела (не путать с научным марксизмом) лежало своеобразное желание пострадать за весь мировой рабочий класс, за всех трудящихся и обременённых. Признаки такого рода идеалистической, немотивированной рациональными и прагматическими мотивами жертвенности мы можем видеть даже в буржуазных революциях, а уж тем более, во всех национально-освободительных движениях.
Ещё более ярко принцип жертвы проявился в Великой Отечественной Войне. Даже сами речевые обороты типа «20 миллионов жизней, принесённых на алтарь Победы» прямо указывают на то, что выжженное воинствующим атеизмом поле стало стремительно «зарастать» самопальной «естественной» религиозностью, родственной язычеству с характерно религиозным пониманием смысла жертвы. Подстать тому и памятники, воздвигнутые по итогам войны. Скажем, памятник Неизвестному Солдату. Всем понятно, что изображённого в бронзе Неизвестного Солдата как конкретной личности не существовало, что это обобщённый образ, не только аналогичный, но и практически тождественный Марсу, Аресу и Индре – то есть таким же культовым персонификациям воинского архетипа.
Кому же приносят регулярные жертвы цветами и почётными караулами, кому кланяются и перед кем преклоняют колени? Можно, конечно, сказать, что всем павшим героям, чей образ обобщает Неизвестный Солдат. Но с точки зрения господствовавшего в качестве официальной идеологии материализма поклонение и жертвоприношение реально существовавшему мёртвому человеку имеет не больше смысла, чем поклонение обобщённому архетипу воина. Нужны ли эти цветы, венки, минуты молчания, почётные караулы и иные жертвы (а ведь по существу это именно жертвы) мёртвым? Очевидно, нет. Как и всякая жертва, она имела значение как таковая – причём именно для тех, кто её приносит, а не для тех, кому она приносится. И это значение вполне верифицируемо и материально ощутимо: как только культовое значение Победы перестало скреплять историческую общность под названием «советский народ», так незамедлительно рухнула вторая мировая сверхдержава. Этно-демографические и геополитические последствия этой катастрофы будут пребывать фактом, данном в непосредственном ощущении, ещё весьма длительное даже в историческом масштабе время.
Не будет преувеличением сказать, что всякая вообще идея, начиная с вращения Земли вокруг Солнца и заканчивая политическими идеологиями, обретала исторический вес и значение в меру тех жертв, которыми эта идея была оплачена. Примечательна в этой связи формулировка Ф.М. Достоевского из его «Записной тетради»: «Кровь. «Только то и крепко, подо что кровь протечет». Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он — закон крови на земле». И в самом деле, сила и жизненность идеи оказывается, прежде всего, функцией не её логической непротиворечивости и соответствия объективной реальности, а той жертвы, которая во имя этой идеи приносится. Самая сумбурная и вздорная на вид идея может стать мощной силой истории, если она овладевает группой жертвенных и преданных ей адептов. И, напротив, самая верная, точная и нужная идея может остаться лишь предметом никчёмных салонных словопрений, если нет людей, готовых оживотворить её своей кровью.
Поэтому глубоко закономерно то, что в мире победившей толерантности, в котором за идею стало не нужно платить не только жизнью и кровью, но даже карьерой и материальной успешностью, идея оказалась полностью обесценена. В самом деле, если за выраженную и высказанную идею нет необходимости расплачиваться, то открывается полная свобода генерации и озвучивания любых идей сколь угодно низкой ценности. Возникающий в результате «белый шум» начисто исключает ту тишину, в которой осмысленное слово может прозвучать и быть услышано. Но самое главное, что в мире всеобщего безответственного словоговорения даже самая правильная и адекватная идея оказывается не просто заглушена фоновым шумом, но и обесценена тем, что она уже не подлежит воплощению (ибо всякое воплощение возможно лишь путём мобилизационного напряжения, т. е. принесения жертвы). Следовательно, в безжертвенном мире даже самое правильное слово превращается в праздное резонёрство. Жизнь, лишённая жертвенного усилия, движется своим чередом индифферентно к пассивной человеческой рефлексии – и поэтому степень адекватности этой рефлексии становится совершенно неважна с практической точки зрения. И отсюда открывается дорога к полной равноценности истины и лжи, последовательной стройной теории и спонтанного бреда, рационального и иррационального, обоснованного и необоснованного, доказанного и недоказанного. Утрачивается всякая объективная мера оценки, и достигается состояние усталой пресыщенности и полного равнодушия, если не сказать тошноты и отвращения ко всякой вообще мысли, идее, концепту или слову. Каждый пытается самовыразиться и надрывает глотку, чтобы перекричать окружающий «экстравагантный ансамбль» – и чем более надрывается каждый, тем больше общий шум и тем невозможнее его перекричать.
Цивилизация, основанная на отрицании жертвы, неизбежно отрицает любую мобилизацию, любой коллективный волевой импульс. И именно тогда, когда логика максимизации комфорта, логика чистого индивидуального прагматизма достигает своего полного торжества – именно тогда открывается во всей полноте смысл отвергнутого принципа жертвы. Потому что в мире, в котором не осталось ничего, за что можно умереть, не остаётся и того, ради чего стоило бы жить. Само воспроизводство жизни требует жертвы. Нежелание жертвовать своим комфортом, своими удовольствиями, своим временем и успехом исключает как деторождение, так и семью вообще. Современный человек, не видящий смысла жертвовать своим комфортом, не заводит детей вовсе или, если заводит, то одного, редко – двух. Не желая жертвовать своей свободой и своими удовольствиями, он не связывает себя узами брака и половой морали. В конечном счёте, отрицание смерти и крови во имя комфорта и личного благополучия, с неизбежностью отрицает и всякий смысл жизни и, следовательно, и саму жизнь. Цивилизация комфорта, начавшаяся с отрицания якобы всего, противоречащего интересам жизни (войн, революций, перенапряжения и тяжёлого самоотверженного труда, любых идей, предполагающих принесение в жертву человеческой жизни, свободы или просто комфорта) с неизбежностью вырождается в цивилизацию смерти – цивилизацию контрацептивов, абортов и извращённых бесплодных наслаждений, с неизбежностью ведущих в конечном счёте к пресыщению и отвращению от жизни. Смерть, отвергнутая в своей естественной форме, возвращается в форме извращённой – в наркотической и усыпляющей форме мира расслабляющих и изнуряющих тело удобств и разлагающей разум рекламы.
Не случайно две мировые войны, эпицентром которых стала в первой половине XX века Европа и которые в совокупности унесли порядка 70 миллионов жизней, не привели к демографической катастрофе. В большинстве стран эти колоссальные потери были в течение буквально нескольких лет компенсированы послевоенным всплеском рождаемости – так называемым «бэби-бумом». Жертвенная кровь, пролитая в землю в мировых войнах, обильно взошла новой жизнью. Но по мере того, как порождённый войной импульс угасал, рождаемость падала, и к концу XX – началу XXI века последствия длительной расслабленной комфортной жизни стали катастрофическими: в большинстве европейских стран идёт стремительное вымирание коренных белых наций и их замещение и вытеснение мигрантами из Африки и Азии и их множащимся подобно саранче потомством.
Закономерность, о которой идёт речь, верна не только с духовной точки зрения, но даже и с чисто физиологической. Любой организм, искусственно лишённый стресса, давления со стороны окружающей среды, необходимости защищаться, сопротивляться, бороться, утрачивает жизнеспособность и гибнет много раньше того организма, который, казалось бы, «исстрачивает» себя в постоянном движении, приспособлении и борьбе с неблагоприятными условиями. Все, в конечном счёте, обречены смерти (по крайней мере, физической), и сопротивление ей есть изначальная трагедия индивидуального бытия, ибо смысл этого сопротивления состоит именно в его обречённости. Попытка же избежать этой трагедии, избежать «истачивающей» жизнь вечной и непрестанной борьбы, исключить всё, что требует жертвы и усилия, ведёт к смерти гораздо более быстрым, хотя и незаметным путём.
XX век ознаменовался рождением доктрин, заклейменных как человеконенавистнические» именно потому, что они в максимальной степени выражали дух жертвы и отрицали «священность» индивидуальной жизни. Первым на свет родился большевизм и, как реакция в ответ на него – итальянский фашизм и германский нацизм. Бенито Муссолини в своей книге «Доктрина фашизма» писал: «Вот вам ещё, товарищи, программа: бороться. Для нас, фашистов, жизнь есть длящаяся и непрестанная борьба, охотно принимаемая нами с большим мужеством и необходимым бесстрашием. (Речь в Риме в 7-ую годовщину основания дружин, 23 марта 1926 г. ; «С. и Р. », т. V, стр. 297). Вот, даже нечто новое для сущности фашистской философии! Когда Финляндский философ недавно просил меня в одной фразе выразить ему смысл фашизма, я написал ему по-немецки: «мы против удобной жизни». (Е. Людвиг. Разговоры с Муссолини. Милан, 1932 г., стр. 190) ». Любопытно, но если вдуматься, то под этой формулой могли бы подписаться отнюдь не только фашисты, но адепты ЛЮБОЙ без исключения доктрины – религиозной, политической, экзистенциальной, начиная от православных аскетов и заканчивая католическими иезуитами и даже просто открытыми сатанистами, начиная с большевиков и заканчивая монархистами, начиная от истовых язычников и заканчивая фанатичными мусульманами. Духовный смысл этой борьбы в каждом случае будет разным, идеи, ради которых ведётся борьба, могут быть как истинными, так и ложными. Различны и формы борьбы, которая может проявляться и как внешняя война, и как в безмолвии проходящая невидимая брань религиозного подвижника. Но одно общее – готовность к борьбе, к жертвованию своим удобством, своим комфортом, своими удовольствиями и, в крайней степени – самой своей жизнью. При всей тотальной идейной противоположности и духовном антагонизме перечисленных доктрин, у них есть нечто онтологически общее – а именно, отношение к жизни как к борьбе и готовность жертвовать комфортом, удобством, а при крайней необходимости и самой жизнью во имя принципа даже в том случае, если этот принцип глубоко индивидуалистичен и эгоистичен (как, например, у сатанистов и атеистических экзистенциалистов).
Всей совокупности самых разнообразных и самых противоположных доктрин противостоит тотальный конформизм и максимально выраженный в постмодернистской культуре принцип полного релятивизма и всеприятия – равнодушно-отстранённое отношение к любой доктрине и любой позиции, представление о бесконечной множественности истин и условности любых (духовных, аксиологических, интеллектуально-логических, эстетических, этических и т. д.) критериев оценки.
В Откровении Св. Апостола Иоанна Богослова, известном как Апокалипсис, Господь говорит: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3:15–16). Эти слова наводят на мысль о том, что даже приверженность ложному принципу много лучше, нежели равнодушная равноудалённость. В определённом смысле холодный и горячий оказываются ближе друг другу, чем теплохладный – к любому из них. История знает немало случаев, когда ярые гонители христианства и ревностные язычники, еретики и даже иудеи обращались ко Христу и становились христианскими святыми, подобно Св. Апостолу Павлу. Немало найдётся в церковной истории и случаев, когда святыми становились ужаснувшиеся своих пороков преступники, убийцы, развратники и блудницы. Но едва ли удастся нам найти случай, чтобы не то что святым, а просто искренне верующим стал равнодушно-пресыщенный постмодернист, ненапряжно приемлющий Христианство наравне с буддизмом, оккультизмом, атеизмом, либерализмом и последней телерекламой сникерсов. В определённом смысле искренний и последовательный сатанист, дошедший в своём поиске истины до последних пределов духовного небытия, быть может, лучше и потенциально способнее к осознанию своего гибельного заблуждения, чем в принципе неспособный подняться над уровнем физиологии и быта безверующий обыватель. Сатанист может ужаснуться тому, куда зашёл, и начать искать иной путь; безверующий и бездумный сытый обыватель, равно как и пресыщенный развлекающийся постмодернист (почитающий себя эстетом и интеллектуалом) – вряд ли, ибо он изначально ничего не искал, никуда не шёл и ему, в сущности, нечему даже ужаснуться. Бескомпромиссный, последовательный и самоотверженный поиск истины остаётся подвигом даже тогда, когда обрывается на трагической ошибке. Во всяком случае, онтологическое, антропологическое и экзистенциальное достоинство ошибившегося и не нашедшего несоизмеримо выше достоинства не искавшего.
В своё время Адольф Гитлер сказал: «Из мелкобуржуазного социал-демократа или из профсоюзного главаря национал-социалист никогда не получится, но из коммуниста получится всегда». Комментируя это высказывание, известный американский автор Эрик Хоффер в своей книге «Истинноверующий» отмечает: «Восприимчивость к массовому движению вообще не всегда исчезает в человеке даже после того, как он перестал быть потенциальным истинноверующим, а уже примкнул к какому-нибудь движению. А там, где разные массовые движения бурно соревнуются между собой, — там бывают и такие случаи, когда разные последователи одного движения переходят в другое. Превращение Савла в Павла — не редкость и не чудо. В наше время каждое массовое движение в поисках своих новых последователей видит в разных приверженцах враждебных массовых движений своих потенциальных последователей. <…>. Из факта, что массовые движения привлекают людей одного и того же психологического типа и одинакового образа мышления, следует: а) все массовые движения соревнуются друг с другом, и если одно из них набирает больше последователей, то другим достается меньше б) все массовые движения взаимозаменяемы, одно движение легко может превратиться в другое: религиозное движение может превратиться в националистическое или в социальную революцию социальная революция — в воинствующий национализм или в религиозное движение националистическое движение может превратиться в религиозное или в социальную революцию».
В предисловии к этой книге Хоффер формулирует свой тезис: «Эта книга — о некоторых особенностях, свойственных всем массовым движениям: будь то религиозные движения, национальные или социальные революции. Книга эта не утверждает, что все массовые движения однородны, но у всех их есть некоторые характерные основные черты, придающие им «семейное сходство». Все массовые движения порождают в своих последователях готовность жертвовать собой и действовать объединенными силами; все массовые движения, независимо от своих программ и доктрин, вызывают фанатизм, энтузиазм, горячие надежды, ненависть, нетерпимость; все они могут в определенных областях жизни вызвать могучий поток активности; все они требуют слепой веры и нерассуждающей верности. Все массовые движения, как бы ни были различны их цели и доктрины, первых своих последователей находят среди людей одного определенного склада и привлекают к себе людей одинакового образа мысли. Хотя различия между фанатичным христианином, фанатичным мусульманином и таким же националистом или между фанатиком-коммунистом и фанатиком-нацистом очевидны, однако в их фанатизме, несомненно, имеется и общее. То же самое можно сказать и о силе, которая толкает их всех к экспансии и стремлению к мировому владычеству. Нет никакого сомнения, что в явлениях, связанных с фанатичной верой, стремлением к власти, к единению, самопожертвованию, — имеется известная общность. Каждое «священное дело» сильно отличается одно от другого — по содержанию и доктрине, но все факторы, которые делают их действенными, однородны. Каждый подобно Паскалю, находившему убедительные доказательства истинности христианства, может найти не менее убедительные доказательства истинности коммунизма, нацизма или национализма. За какое бы «священное дело» ни отдавали свои жизни люди, они, вероятно, в основном умирают за одно и то же. В этой книге говорится главным образом о массовых движениях в фазе их подъема. Именно в этой фазе ведущую роль играет истинноверующий — человек-фанатик «священного дела», готовый для этого дела пожертвовать и жизнью».
Сама книга Хоффера во многом лежит в русле составляющей современный мэйнстрим как либерализма, так и левачества т. н. «критики тоталитаризма» (хотя и отличается от большинства «антитоталитарных исследований» более высоким интеллектуальным уровнем и отсутствием оголтелости). Поэтому неудивительно, что сам автор трактует феномен «истинноверующиго» не только критически, но и негативно, как проявление неудовлетворённости жизнью, причём зачастую искусственно разжигаемой. Иными словами, как некое отклонение от нормального порядка вещей, предполагающего удовлетворяющую человека жизнь. С этим оценочным суждением относительно нормы мы категорически не согласны, но само наблюдение в отношении родового сходства массовых движений нельзя не признать ценным и верным.
Такой взгляд на вещи переворачивает привычные оценочные координаты и означает своего рода «смену вех». Привычный взгляд, в соответствии с которым непримиримыми антагонистами являются радикальные элементы противостоящих доктрин, а центристы (соглашатели, «болото») занимают между ними промежуточное положение, заменяется принципиально новым взглядом. В рамках этого нового взгляда акцент делается на сущностное антропологическое и экзистенциальное родство самых различных в смысле идеологии радикалов и их совместное, совокупное (при полном сохранении доктринальной чистоты каждого из течений и категорическом исключении какой-либо эклектики и смешения между ними) противостояние «болоту». Более того, речь может идти сегодня не только о сущностном сходстве революционеров и фундаменталистов самых разных направлений, но и об объективном совпадении их интересов.
Поскольку матрицей современной цивилизации комфорта является идеологический индифферентизм и подавление любой духовной, идеократической или даже просто эстетической системы ценностей, не вписывающейся в формат потребительства, все силы, заинтересованные в низвержении такого порядка, имеют перед собой сегодня общую цель и некую общую точку взаимопонимания. Коммунисты и монархисты, православные и экзистенциалисты-атеисты, национал-социалисты и хиппи, при всей очевидной разнородности, разнокачественности и безусловной несмешиваемости и неслиянности своих духовных, эстетических и социально-политических идеалов, в одних и тех же социальных катакомбах готовят общее восстание против обезличенного деидеологизированного постмодернистского мира потребления, капитало-, медиа- и технократии. Восстание жизни и смерти против не-жизни и не-смерти, одухотворённого бытия против обессмысленного бытосуществования, идеологических нонконформистских идентичностей против безликого конформизма репрессивно-толерантной Системы, исторического времени против застывшего безвременья, реальности против виртуальности. В конечном счёте, восстание мира жертвы против цивилизации комфорта.