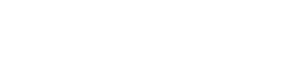Ч.II. Глава 3. Земное и небесное в русской революции

Глава 3. Земное и небесное в русской революции
Россия – поиск цельности
В предыдущем разделе мы достаточно подробно рассмотрели теоретические аспекты соотношений между христианством и социализмом. Пришло время обратиться к эмпирической стороне этого вопроса – особенно драматически проявившегося в истории русской Революции. Россия, как первая в мире страна «победившего социализма», являет собой в этом отношении исключительно емкое поле для размышления.
Прежде всего следует задаться вопросом: почему именно Россия всерьез задумала и осуществила реальное переустройство общества на принципах социализма? Существует множество мнений на этот счет, широко разнящихся как по линии идеологических пристрастий, так и по глубине историософского анализа. Причем в последнее время вообще доминирует тенденция считать период советского социализма чуть ли не неким недоразумением русской истории, ее случайным и досадным эпизодом, от последствий которого как от тяжелой болезни необходимо поскорее избавиться. В этом единодушны как нынешняя либеральная элита, стремящаяся поскорее вернуть Россию как заблудшую овцу в семью «цивилизованных народов»; так и наши православные патриоты, чающие, наоборот, скорейшего возвращения России после семидесятилетнего «вавилонского пленения» на путь своей традиционной государственности… эпохи, примерно, конца XIX века. В противовес подобному легкомысленному отношению к социализму в контексте русской истории, наша точка зрения состоит в том, что Россия шла к решению социалистического вопроса всем существом своей истории.
С актом принятия христианства в X веке при св. князе Владимире, ознаменовавшего собой одновременно и начало русской государственности, Россия оказалась фактически последним крупным государством Европы (да и мира вообще), принявшим христианство. Уже этот факт ставит Россию среди христианских народов в некое особое положение, суть которого выражается евангельской формулой: «И будут последние первыми» [Мф.20.16]. Исторической судьбой России как бы изначально предназначено какое-то новое слово в христианстве, которого еще не знает мир. Именно об этом, хоть и парадоксальным образом, говорит и тот факт, что Россия, приняв христианство от Византии в форме Православия, не только оказалась единственной наследницей полноты Православия, но и в том, что само Православие, как христианское учение, имело к началу XI века, совершенно зрелую и законченную форму. Это обстоятельство как бы сразу поставило Россию по отношению к христианству в качественно новое отношение: с одной стороны, избавило русское самосознание от необходимости заниматься чисто догматической (внутренней) стороной христианства, а с другой, – прямо поставило его перед необходимостью осуществления данной полноты христианства в исторической жизни. Таким образом, изначально русское христианское самосознание оказалось перед задачей воплощения христианской истины как целостного и зрелого духовно-социального идеала в реальной жизни – в этом, по существу, состояла (и состоит) особая христианская миссия России в христианской истории. Так как даже та, более распространенная точка зрения, что миссия России – в хранении истины православия для свидетельства миру в конце времен… – означает по сути то же самое: ибо какое же еще иное возможно свидетельство миру, если не в форме зримого исторического свершения как результата полноты воплощения православия в истории! «Для России, – говорит А.Хомяков, – возможна только одна задача: быть обществом, основанным на самых высших нравственных началах, или иначе – все, что благородно и возвышенно, все, что исполнено любви и сочувствия к ближнему, все, что основывается на самоотречении и самопожертвовании, – все это заключается в одном слове: христианство. Для России возможна одна только задача: сделаться самым христианским из человеческих обществ…»[i].
Содержание ключевого для русской историософии понятия «Святая Русь» как раз и отражает эту вневременную и в то же время историческую задачу русского христианского самосознания. В нем таинственно сочетаются и сливаются небесное понятие «Святая» и земное понятие «Русь», что делает образ Святой Руси одновременно и возвышенным, неотмирным идеалом, и в то же время – целью национального исторического бытия. Именно в этом смысле Святая Русь есть национальная идея России. Суть ее состоит в исполнении идеала христианской святости в реальной истории не только на личном, но и на общественном уровне. Как пишет Ф.Карелин «православному народу всегда было свойственно искание святых в такой же мере, как и самим святым – искание святости. Недаром древнерусский народ назвал свою землю Святой Русью. В одном этом слове выразил он всю полноту своего жизненного идеала: не только церковного, но и личного, не только личного, но и общественного, не только общественного, но и политического. Ибо, в понимании древнерусского народа, Святая Русь — это такая Земля, еще не бывшая, но вечно чаемая, которая во всем управляется Святыми»[ii].
Однако как же может решаться подобная задача? Как вообще реализуемо вневременное во временном, небесное в земном, христианский идеал – в реальной истории? Наиболее первичной и простой формой решения этого русского христианского вопроса, включавшей в себя и временную и вневременную его проекции, было монашество. И Россия, действительно, в XI–XV веках расцвела множеством православных общежительных монастырей, в которых общественный идеал христианства, в меру личного монашеского подвига, присутствовал и осуществлялся в локальном социальном измерении. Однако в масштабе историческом, общесоциальном и государственном, включавшем всю полноту русского христианского самосознания в его мессианской перспективе, все было далеко не так просто. Вневременный образ Святой Руси как целостное представление об общественном христианском идеале в реальном историческом потоке распадался на две полярные мировоззренческие позиции: видевших этот образ или в чисто мистическом измерении («Град Китеж»), или, наоборот, в конкретной исторической эмпирии («Москва – Третий Рим»). Эта изначальная метафизическая раздвоенность русского самосознания определила собой и весь характер русской истории, наиболее наглядно проявившийся в известной катастрофичности русской истории. Принципиальная эмпирическая неразрешимость русского мессианского (христианского) вопроса постоянно провоцировала русский дух на уклонение в две противоположные крайности: либо полная идеализация христианского откровения как полное отрицание какой-либо предметной деятельности по его осуществлению в реальной жизни, либо наоборот, радикальная деятельность по его прямому и непосредственному осуществлению в конкретной истории.
Впервые это глубокое противоречие русского христианского самосознания явно обозначилось внутри самой православной Церкви – в церковном конфликте XV века между заволжскими старцами (нестяжателями) во главе с Нилом Сорским, и иосифлянами, сторонниками церковных идей игумена Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого. Примечательно, что суть конфликта касалась не тех или иных догматических тонкостей, а состояла сугубо в вопросе о земном – иметь или не иметь монастырям собственные землевладения и соответствующие хозяйственные попечения; т.е., по существу, об отношениях церкви с миром, государством и обществом. Уже в этом эпизоде русской истории со всей отчетливостью проявилась вся противоречивость и широта мессианской задачи русского православия и русской идеи спасения. Православие Нила Сорского основано на полном отречении от мира и устремлено к внутреннему преображению человеческой души на путях умного делания (уединения, глубокой молитвы, исихазма), даже общежительные традиции монашества приобретают здесь умеренный характер, ограничиваясь скитской формой общежития. Православие Иосифа Волоцкого, наоборот, устремлено в мир, к преображению мира Церковью: идею церковного строительства волоколамский игумен видел не только во всемерном укреплении общежительных традиций православных монастырей, но и в необходимости включения в зону монастырских (т.е. церковных) интересов и жизни за стенами монастыря, включая прямое хозяйственное попечение об окружающих крестьянских селах.
Здесь отразились как бы два лика русской святости, два лика национальной идеи – ее земное и небесное измерения. При этом русское православие как бы разделилось на два потока: один незримо для мира растворился в мистических областях христианского Откровения, питая своими живительными соками многочисленные явления личной христианской святости, а второй широкой рекою хлынул непосредственно в русский мир, пытаясь преобразить его историческое и эмпирическое бытие. Г.Федотов в одной из работ, посвященной русской святости, так пишет о духовных и социальных последствиях этого события русской церковной истории:
«Противоположность между нестяжателями и иосифлянами поистине огромна как в самом направлении духовной жизни, так и в социальных выводах. Одни исходят из любви, другие – из страха (страха Божия), одни являют кротость и всепрощение, другие – строгость к грешнику, на одной стороне почти безвластие, на другой – строгая дисциплина. Духовная жизнь заволжцев протекает в отрешенном созерцании и умной молитве, – иосифляне любят обрядовое благочестие и уставную молитву. Заволжцы защищают духовную свободу и во имя сострадания дают в своих скитах убежище гонимым еретикам. иосифляне предают их на казнь. Нестяжатели предпочитают собственную бедность милостыне, иосифляне ищут богатства ради социальной организации благотворительности. Заволжцы… питаются духовными соками православного Востока; иосифляне проявляют яркий религиозный национализм. Наконец, первые дорожат независимостью от светской власти, последние работают над укреплением самодержавия и добровольно отдают под его попечение и свои монастыри, и всю русскую Церковь. Начало духовной свободы и мистической жизни противостоит социальной организации и уставному благочестию. Победа Иосифа определилась сродностью, созвучием его дела – национально-государственному идеалу Москвы, с ее суровой дисциплиной, напряжением всех социальных сил и закрепощением их в тягле и службе. Последнее объяснение легкой победы иосифлян – в торжестве национально-государственных задач над внутренне-религиозными»[iii].
Оба подвижника: и Иосиф Волоцкий, и Нил Сорский были впоследствии причислены Церковью к лику святых, и это несколько смягчает остроту данного духовно-исторического противоречия, сохранив в каноническом единстве обе тенденции русского православия. Однако само мессианское существо русской христианской антиномии остается в силе: дистанция между идеалом христианской святости и национально-исторической реальностью остается основным стимулирующим фактором русской истории.
Несмотря на очевидную пользу идей Иосифа Волоцкого (закрепленных на «стоглавом соборе» 1551г.) для развития русской государственности в эпоху Ивана Грозного, сама идея об идеальном православном царстве («Москва – Третий Рим») оказалась исторически недолговечной. Изначальная односторонность идеи христианского переустройства общества с опорой на формальную сторону церковного благочестия (обрядовый консерватизм, домострой, опричнина) как непосредственное воцерковление всей русской жизни, обернулась в XVII веке своей обратной стороной – церковным старообрядческим расколом и последовавшими за ним радикальными реформами Петра I. Идеальные начала христианской веры и реальность национально-государственного бытия словно разошлись здесь по своим крайним мировоззренческим полюсам: с одной стороны, – пафос массового самосожжения ради чистоты истинной веры, отрицание и уход из государственности, где царствует антихрист; с другой, – радикальное переустройство русской действительности и самой христианской Церкви ради земного могущества государства Российского. Одно, без сомнения, полностью соответствует другому, и в своей сумме есть все та же идея Святой Руси, распавшаяся на свои крайние противоположности.
Церковный раскол явился не просто внутренним кризисом церковной жизни – это был кризис мессианского самосознания русского народа. «С него, – пишет Н.Бердяев, – начинается глубокое раздвоение в русской жизни и русской истории, внутренняя расколотость, которая будет продолжаться до русской революции. И многое тут находит свое объяснение. Это кризис русской мессианской идеи. …В основу раскола легло сомнение в том, что русское царство, Третий Рим, есть истинное православное царство. Раскольники почуяли измену в церкви и государстве, они перестали верить в святость иерархической власти в русском царстве. Сознание богооставленности царства было главным движущим мотивом раскола… Раскол был уходом из истории, потому что историей овладел князь этого мира, антихрист, проникший на вершины церкви и государства. Православное царство уходит под землю. Истинное царство есть град Китеж, находящийся под озером…. Отсюда напряженное искание царства правды, противоположного этому нынешнему царству. Так было в народе, так будет в русской революционной интеллигенции XIX века, тоже раскольничьей, тоже уверенной, что злые силы овладели церковью и государством, тоже устремленные к граду Китежу…»[iv].
При этом сам исторический потенциал Русской идеи (христианской Святой Руси) не исчезал и не умалялся в своем ноуменальном значении, но лишь искал для себя новые, адекватные времени, формы исторической реализации. Эту задачу отныне взяло на себя новое крыло русского самосознания, – созревшая в лоне светской культуры русская интеллигенция. К началу XIX века влияние на общественное и народное самосознание светской культуры было уже вполне соизмеримо с влиянием Церкви и поэтому вполне естественно, что инициатива по дальнейшей реализации в истории русской мессианской задачи на фоне затухания исторической активности православия перешла к корпусу русской интеллигенции.
Несмотря на огромную дистанцию, образовавшуюся к тому времени между светской культурой и традиционным народным мировоззрением, русская интеллигенция впитала и сохранила в себе все глубинные мессианские черты русского народного характера: обостренное чувство правды и справедливости, благоговение перед высшими идеалами, жажду осуществить эти идеалы в реальной жизни. Ключевой вопрос русской интеллигенции – «что делать?» – во всей полноте отражает все ту же перманентную задачу русского мессианского самосознания, экзистенциально обнаруживающего себя между неотмирным идеалом и непросветленной исторической реальностью. Причем острота этого вопроса имеет не столько умозрительную, сколько эмоциональную природу, исходящую из нравственных императивов христианской совести, неспособной примириться с видом человеческих страданий. Именно здесь, в сострадающей душе русской интеллигенции христианский вопрос русской мессианской задачи преломляется в вопрос социальный, когда задача христианского преображения мира приобретает форму преображения социальности.
Очень наглядно этот внутренний переход проявился у Радищева, по выражению Н.Бердяева, «родоначальника русской интеллигенции». «Когда Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» написал слова: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала», – русская интеллигенция родилась. Радищев – самое замечательное явление в России XVIII в.… Он замечателен не оригинальностью мысли, а оригинальностью своей чувствительности, своим стремлением к правде, к справедливости, к свободе. Он был тяжело ранен неправдой крепостного права, был первым его обличителем, был одним из первых русских народников»[v].
Россия традиционно называла себя православной империей, но не секрет, что ее социальное устройство было далеко не христианским. До 70-х годов XIX века в России продолжало существовать крепостное право (по существу, разновидность рабства) во всей неприглядности своих проявлений: торговля людьми, самодурство помещиков и бесправие крестьянства. Что бы как-то ощутить эту темную сторону русской действительности достаточно вспомнить того же Радищева («Путешествие…») или «Мертвые души» Гоголя. Социальное, имущественное и культурное расслоение в обществе было столь велико, что говорить о каких-то христианских отношениях между двумя основными сословиями – дворянством и крестьянством – было невозможно.
При этом именно православие (в отличие от католичества и протестантизма) в наименьшей степени было обращено к христианизации социума, то есть поиску путей гармонизации социальных отношений на основе христианских заповедей. В силу ряда исторических причин (со времен Петра I) все это оставалось в полной прерогативе государства. Церковь же занималась лишь «окормлением» существующего положения вещей, относя конечное искупление социальной несправедливости в область «загробного воздаяния». Однако социальная проблематика настойчиво стучалась в дверь. Противоречие между возвышенными идеалами православия и реальной несправедливостью социальной жизни продолжало нарастать, особенно с появлением новых капиталистических форм эксплуатации, грубо разрушавших традиционные нормы социальных связей. В итоге в общественном сознании, уже не способном выдерживать остроту данного противоречия, произошел роковой мировоззренческий разрыв. Вместо отвлеченной, как бы не имеющей отношения к социуму, «небесной идеи» православия общественная (интеллигентская) мысль стала генерировать свою «земную идею» социализма, надеясь с ее помощью разрешить, наконец, проблемы социальной действительности. В этих условиях религия с ее консервативным призывом к смирению становилась прямым антиподом и помехой революционной социалистической решимости преобразить социальный мир. Так, в XIX веке небесное и земное в Русской идее окончательно отделилось и противостало друг другу.
Здесь важно понять, что противостояние между социализмом и религией (христианством) носило в данном случае не абсолютный, а относительный характер. Это был лишь диалектический этап русской истории, противопоставившей две стороны национального бытия (небесную и земную) в их крайнем выражении (как тезис – и антитезис) и обнаживший цивилизационную неполноту того и другого. Диалектическое развитие данной духовно-исторической антиномии предполагает синтез – как исцеление русского мессианского самосознания и самой русской истории.
Однако это уже взгляд из нашей эпохи…
Реальный же исторический процесс есть в некотором смысле слепая стихия, не знающая своего конечного предназначения и исчерпывающая свою слепую инерцию лишь в форме болезненного кризиса. Рубеж XX века ознаменовал излом национальной истории, обнаживший ее глубинные цивилизационные смыслы в их противоречивом идеологическом выражении; дальнейшее развитие русской истории подразумевало иную конфигурацию этих смыслов, формирование которой и произошло в огне русской Революции.
Революция, по существу, есть раскол национального сознания, когда идеологические противоречия национального бытия достигают такой степени поляризации, что происходит разрыв единой ткани национальной истории и органическая сложность общественного мира распадается на самостоятельные (и поэтому принципиально неполноценные) части, переходящие в качестве независимых идеологических субъектов к прямой политической конфронтации. Здесь срывается естественная культурно-историческая эволюция национального самосознания и процесс самопознания нации (раскрытие национальной идеи) переходит в контекст исторической трагедии.
Предпосылки русской революции
Часто высказывается довольно поверхностная мысль, что идеи социализма – инородное явление для русского мировоззрения, привнесенное к нам с Запада вместе с материализмом, марксизмом, атеизмом и революцией. Однако это слишком упрощенный (вульгарный) взгляд на человеческую историю, по меньшей мере, совершенно неправомочное отделение истории России от общей истории человеческой цивилизации. К началу XIX века вопрос о социализме встал перед всей человеческой историей как объективное следствие гуманистических тенденций европейской культуры, и национальные особенности его осмысления (Англия, Франция, Германия – и Россия, как неотъемлемая часть Европы…) были лишь частными случаями его решения. Как писал А.Герцен: «Перед социальным вопросом начинается наше равенство с Европой, или лучше, это действительная точка пересечения двух путей; встретившись, каждый пойдет своей дорогой»[vi]. И действительно, всерьез по пути социализма пошла именно Россия в силу особой предрасположенности к идеям социализма в своих фундаментальных национальных основаниях (общинность народной жизни, соборность православия и т.д.). Исключительное значение традиционного русского мира для судеб социализма впервые почувствовал именно А.Герцен: «Какое это счастье для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастие для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания»[vii].
Но это были лишь объективные предпосылки общего свойства, само же развитие социализма первоначально формировалось в России как социокультурное движение русской мысли на фоне острых диссонансов национальной действительности.
С самого начала XIX века, начиная с Радищева и декабристов, социальный вопрос стал доминирующим фактором русского общественного самосознания: проблема социального переустройства стала для русского общества, по существу, определяющей. Вся русская культура от Пушкина до Толстого была социально-ориентированной и нравственно озабоченной несовершенством социального бытия, в первую очередь – народного бытия, бесправное положение которого было постоянным укором национальной совести. Можно сказать, что именно здесь, на этом социальном вопросе, родилось русское самосознание как таковое, как зримое общественное явление – родилась русская интеллигенция. Если раньше русская идея прокладывала себе путь в истории через те или иные стихийные движения народного духа (народные ополчения, казацкая вольница, раскол, пугачевщина) или, наоборот, через импульсивные действия власти (Иван Грозный, Петр I), то отныне вопрос о Русской идее как пути исторического самоопределения России стал объектом прямого предметного рассмотрения русской общественной мысли.
Противоречия русской действительности были слишком глубоки и разительны, чтобы эта общественная мысль, наконец, не проснулась: христианские идеалы и крепостное право, независимая мысль и самодержавный абсолютизм, европейская культура и примитивность народного быта, праздность дворянства и крестьянское тягло. Все эти диссонансы социальной реальности будили русскую национальную мысль и требовали осмысления и самостоятельного ответа. Одним из таких ответов явилась великая русская литература XIX века, отразившая весь спектр глубоких и мучительных раздумий русского человека о трагических противоречиях национального бытия (Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой…). Вторым – русская религиозная философия, пытавшаяся сформулировать понятие о социальном идеале на путях христианского осмысления действительности (Чаадаев, Хомяков, Киреевский, Соловьев, Булгаков). И третьим – общественно-политическая мысль, искавшая конкретные подходы к разрешению социального вопроса (Герцен, Чернышевский, Белинский, Плеханов, Ленин).
Таким образом, социальный вопрос не был узким, периферийным вопросом русской действительности, интересным лишь «узкому кругу революционеров», но являлся объективной политической, культурной, философской и исторической задачей русской мысли XIX века как необходимость приведения в теоретическое и практическое соответствие высоких идеалов русской идеи и несовершенной данности национальной жизни. Социализм становился в этих условиях своего рода символом новых общественных настроений. Вот что пишет об этом Н.Бердяев: «В русском сознании XIX в. социальная тема занимала преобладающее место. Можно даже сказать, что русская мысль XIX в. в значительной своей части была окрашена социалистически. Если не брать социализм в доктринальном смысле, то можно сказать, что социализм глубоко вкоренен в русской природе… Славянофилы так же отрицали западное буржуазное понимание частной собственности, как и социалисты революционного направления. Все почти думали, что русский народ призван осуществить социальную правду, братство людей. Все надеялись, что Россия избежит неправды и зла капитализма, что она сможет перейти к лучшему социальному строю, минуя капиталистический период в экономическом развитии»[viii].
Однако сам процесс общественного осознания социальной проблематики, как и все в России, проходил далеко не однозначно. Здесь опять проявилась глубокая внутренняя антиномичность русского национального самосознания: в выборе приоритетов социальной модернизации, оно разделилось на западников и славянофилов, что впоследствии (в Феврале 1917-го) привело к идеологической и мировоззренческой неопределенности цивилизационного исторического выбора. Этот очередной мировоззренческий раскол русского самосознания очень симптоматичен для судеб русской истории. В его основе – все тот же спор о самобытности и особых путях русской истории, о ее особом мессианском предназначении. Исключительность данного этапа русской истории состояла в углублении и конкретизации собственно русской задачи в развитии византийской христианской традиции как отличной от христианской традиции Запада. Существо этой задачи состоит в том, что «Россия, по общей мысли славянофилов, призвана раскрыть христианскую правду о земле, не раскрытую в византийском православии, ту деятельно-общественную правду, которая в Византии оставалась бездейственной и мертвой»[ix].
Собственно спор происходил не между теми или иными мыслителями (их взгляды часто взаимно переплетались), а между русской идеей как внутренней задачей русской истории и существующей цивилизацией Запада, осуществлявшей перманентную идеологическую экспансию на историческую Русь. Само понятие «русская идея» было сформулировано в русле славянофильской традиции как антитеза западной цивилизации и ознаменовало собой историческую зрелость русского самосознания, его готовность сознательно отстаивать собственный путь в истории. Именно славянофильство отражает сущностное содержание русского самосознания в его социально-историческом, духовно-религиозном и историософском аспектах. В своей идеологии славянофилы опирались на органичные начала национальной истории (Московское царство); народничество (народ как носитель правды), православную веру (как основание русской идеи); идеалы общинности и соборности в общественной жизни, веру в особое предназначение России в мировой истории. Особо следует подчеркнуть, что социальная тема в славянофильстве была одной из ключевых. Славянофилы пытались обосновать и сформулировать на основе православной веры и русских общинных традиций истинные принципы общественной жизни: христианский социальный идеал, который во многих своих чертах может считаться прообразом русского христианского социализма.
При этом естественной чертой славянофильства являлось понимание губительности для традиционных основ русской цивилизации принципов западной буржуазности и либерализма. Подразумевалось, что Россия обладает собственным, более органичным началом общественной жизни, которое необходимо сохранить и развить в грядущих исторических судьбах. Все это еще раз говорит о том, что идеи социализма изначально имели на русской почве вполне самостоятельное, глубоко органическое русскому духу развитие. Даже среди западников наиболее видные представители (Герцен, Белинский, Огарев) были сторонниками русского социализма, хоть и выводили его не из христианских и народных оснований, а из идей европейского гуманизма и просвещения.
С середины XIX в. интенсивность общественно-политической жизни начинает нарастать, значительно усиливается предметность социального вопроса. С начала 60-х годов спор славянофилов и западников из чисто теоретической области переходит в более практическую плоскость, трансформировавшись в народничество и либерализм на фоне заметного усиления революционного брожения, к которому обе стороны были по своему причастны. При этом народничество явилось своеобразной общественно-политической проекцией славянофильства, а либерализм – развитием идеологических убеждений западничества; хотя в дальнейшем, по мере нарастания идеологического хаоса в общественном сознании, эти разграничения потеряли отчетливые очертания. Тем не менее, народничество оставалось, безусловно, доминирующим фактором общественно-политической жизни 60-70-х годов; именно на этой почве пыталась решить социальный вопрос русская общественная мысль. «Народничество, – пишет Н.Бердяев, – …имело многообразные проявления. Было народничество консервативное и революционное, материалистическое и религиозное. Народниками были славянофилы и Герцен, Достоевский и революционеры 70-х годов. И всегда в основании лежала вера в народ как хранителя правды»[x]. Это является еще одной чертой, отличающей самобытную диалектику развития русского социализма в XIX веке: антибуржуазные идеи в русском обществе изначально связывались с фундаментальной правдой народной жизни, ее общинным духовно-нравственным характером. Лишь неудача народничества как несколько идеализированного социально-политического течения в деле практического преобразования общества (народ сам по себе оказался консервативен) привела к более радикальным формам политической борьбы: марксизму в революционной теории и политическому подполью в революционной практике. Предметность социального вопроса перешла в необратимую революционно-политическую фазу.
Следует напомнить, что все эти социально-идеологические процессы в русской социальной мысли, начиная с Радищева и декабристов, происходили на фоне напряженного, все усиливающегося противостояния самодержавной государственности и общества (интеллигенции). Ссылки, цензурный гнет, каторга были в XIX в. нормой общественно-политической жизни. Ни запоздалое освобождение крестьянства, ни чеканное идеологическое заклинание графа С.С.Уварова – «православие, самодержавие, народность» – не могли остановить процессы общественного брожения. Можно видеть причины подобного напряжения в сохранении различных экономических, политических и социальных несовершенств русской жизни, оставшихся нерешенным наследием еще XVIII века (таких как крепостное право, дворянское землевладение, абсолютизм монархии, отсутствие политических свобод, сословное разделение общества и т.д.), вошедших в противоречие с демократическими веяниями общеевропейской истории. Но, на наш взгляд, причины общественных нестроений XIX в. имеют более глубокую природу, связанную с общим духовно-историческим кризисом русского самосознания, подошедшего к необходимости какой-то новой идеологической идентификации в рамках культурно-цивилизационных реалий новейшего времени. Россия словно предощущала неизбежность кардинального идеологического выбора в условиях активного становления собственного национального самосознания и буржуазно-либеральных тенденций европейской истории. Очевидно, то и другое явно не соответствовало друг другу, что и предопределило внутреннюю конфликтность русского самосознания, прямо отразившуюся на характере общественно-политических процессов.
В этом отношении распад только что народившейся русской общественной мысли на западников и славянофилов был лишь поверхностным и вторичным проявлением кризиса. Основной же конфликт пролегал в самом основании русской государственности – в области веры. Именно здесь невидимо распадалось традиционное единство русского общества. И дело не только в немыслимых ранее явлениях русского нигилизма, анархизма, атеизма и материализма, а в историческом кризисе самой православной веры как идеологической основы русской государственности; в ее неспособности осуществлять направляющее (пастырское) влияние на жизнь общества.
Этот кризис – во многом объективное общественно-историческое явление. Начавшийся еще во времена церковного раскола, усиленный европейским Просвещением и неумолимо прогрессировавший по мере секуляризации общественной (светской) жизни, этот кризис означал постепенный и необратимый отрыв общественного сознания от религиозных истин православия. Новые веяния культурной, политической и социально-экономической жизни не находили уже адекватного идеологического отражения в церковном сознании. То есть нарушалась важнейшая обратная связь между динамикой общественно-идеологических процессов и религиозной глубиной национальной веры. При существующей системе отношений изменить что-либо в характере этих религиозно-идеологических процессов было невозможно. Еще со времен церковного реформаторства Петра I православная Церковь как общественный институт находилась в подчиненном, несамостоятельном и, как следствие, исторически не активном состоянии. Это сопровождалось общим упадком церковной жизни (о чем неоднократно с горечью высказывался св. Игнатий Брянчанинов) и падением авторитета Церкви в обществе, особенно в среде интеллигенции. При этом общественная проблематика и назревавший социальный кризис оставались как бы вне внимания Церкви, точнее, оно носило пассивный, сугубо охранительный характер. (Так Церковь в лице митр. Филарета осудила славянофильство, признав его несовместимым с православием)[xi].
Вплоть до начала XX в. Церковь оставалась по существу индифферентной к социальному запросу русского общества и русской истории. Вопрос русской интеллигенции «что делать?», возможно, потому и звучит столь категорично, что антитезой ему в традиционном церковном сознании стоит не менее категоричный ответ – «смиряться» (не делать ничего), ибо этот мир обречен и не подлежит изменению и оправданию. Это не просто противостояние светского и церковного миропонимания. Особая глубина проблемы состоит в том, что социальный вопрос лишь по форме есть вопрос общественно-политический, сущность же его – в христианских началах человеческих отношений. Молчание Церкви в этом ключевом вопросе русской жизни XIX в. предстает явным контрастом на фоне духовно-исторической активизации русской интеллигенции. То и другое взаимосвязано в очень многих отношениях. Но взаимосвязь эта не просто компенсация, а глубокий, драматический мировоззренческий дисбаланс русского самосознания, распад его души и разума, приведший в итоге к серьезным и трагическим последствиям. Вера русской интеллигенции из области отвлеченных религиозных измерений сместилась в реальную ткань истории, обретя свою предметность в области социального переустройства в надеждах на осуществление на земле общественного социального идеала. Это вполне в духе Русской идеи и в русле русской истории, но без опоры на фундаментальные начала христианства, которые как одухотворенные истины хранимы именно в Церкви, подобная вера бессильна. На этом переходе произошел мировоззренческий срыв Русской идеи, распад ее целостного религиозно-исторического смысла. Здесь актуальное содержание русской истории и история русской Церкви словно отделились друг от друга и пошли каждая своей дорогой: русская государственность – к краху, а русская Церковь – к мученичеству.
Кто тут виноват: русская Церковь, или русская интеллигенция? Вопрос риторический. Вся русская интеллигенция была от рождения крещеной частью православной Церкви. Поэтому даже с этой формальной точки зрения глубочайший кризис русской истории (революция начала XX в.) можно с полным правом считать историческим кризисом русского православия. Как идеологическое основание русской государственности, Церковь утратила внутреннюю мировоззренческую связь с обществом, и, как следствие, – историческую адекватность своей пастырской миссии.
Надо сказать, что связь эта на внешнем, общественном уровне и ранее не была особенно глубока. Православие, в отличие от католичества и, тем более, протестантизма, в своем мистически-религиозном пафосе обращено, в первую очередь, внутрь, в глубину духовного преображения человеческой личности, и это объективно выражается в некой естественной индифферентности к внешним условиям человеческой жизни. Эта особая специфика русской (восточной) религиозности по-своему отразилась и на характере общественно-политических процессов, в первую очередь, в проявлениях разрушительного революционно-правового нигилизма. Данная религиозно обусловленная сторона неустроенной русской действительности неоднократно отмечалась русской философией. Так, С.Франк пишет: «От рождения германских государств в раннем средневековье религиозный дух Запада направлялся на формирование нравов и правовых отношений… Церковь формировала жизнь, которая во всех: государственной, нравственной и гражданской областях покоилась на религиозных основах. Вера в эти основы так прочно вошла в душу европейца, что после разрушения теократического фундамента жизни осталась неприкосновенной… Совершенно иное в России. Большая духовная энергия, черпаемая из неиссякаемого источника православной веры, направлялась в глубины духовной жизни, не участвуя заметно в формировании гражданской и государственной жизни»[xii]. Ему вторит П.Струве: «В России не было реформации, и не произошло поэтому секуляризации христианской морали, того ее превращения в методику и дисциплину ежедневной жизни, которое совершилось на Западе. В России была религия и религиозность, но в ежедневную жизнь как дисциплинирующее начало религия не проникла»[xiii]. Здесь достоинства православия (духовная глубина, мистическая непричастность к этому миру) исторически обернулись своим недостатком. «Православное религиозное воспитание, – отмечает Н.Бердяев, – неблагоприятно для исторической жизни народов; оно мало научает общественному и культурному строительству, мало дисциплинирует личность. Православие вечно колеблется между максимализмом святости и минимализмом довольно низменной бытовой жизни. Русское православие создало ослепительные образы святости и воспитало в народе культ святости и святых. Но очень мало сделало для развития в русском человеке честности и ответственности для религиозного укрепления в нем энергии, необходимой для творчества истории и культуры»[xiv].
В итоге русская мысль XIX века, выйдя непосредственно к решению общественно-социальных вопросов, невольно оказалась эмансипированной от религиозной традиции православия, не найдя между тем и другим прямых, религиозно освященных связей. В этом и состоял роковой идеологический разрыв русской жизни, приведший впоследствии к полному государственному краху начала XX века. Кризис идеологии – это и есть по существу кризис веры. Значительная часть русского общества, и, в первую очередь, интеллигенция, потеряла чувство опоры в традиционных христианских ценностях, расшатанных европейским «просвещением» и девальвированных социальной беспомощностью Церкви, и взыскала ценностей новых – новой формулировки своих христианских социальных ожиданий. Так появился феномен русского коммунизма, атеистический по форме, но религиозный по своему существу.
Социальный пафос русской интеллигенции, действительно, во многом имел религиозные основания, что многократно подчеркивалось различными мыслителями. Так, С.Булгаков пишет: «Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества – если не от греха, то от страданий – составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. Боль от дисгармонии жизни и стремление к ее преодолению отличают и наиболее крупных писателей-интеллигентов… В этом стремлении к Грядущему Граду, в сравнении с которым бледнеет земная действительность, интеллигенция сохранила, быть может, в наиболее распознаваемой форме черты утраченной церковности»[xv]. Однако будучи оторванной от церковной традиции, эта «религиозность» оказывается искаженной и ложной, часто оборачиваясь своей противоположностью – атеизмом и человекобожием, верой в самодостаточное совершенство человека, в бесконечный прогресс, осуществляемый его силами. Духовная слепота этой веры, соединяясь с человеческой гордостью, часто оборачивалась крайним революционным радикализмом.
Показательны в этом отношении слова лидера партии Народная Воля А.Желябова, сказанные им на процессе после убийства народовольцами Александра II: «Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого учения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за право угнетенных и слабых и, если нужно, то за них пострадать: такова моя вера»[xvi]. Сюда же можно отнести и знаменитый «Катехизис революционера» С.Нечаева, который, по словам Н.Бердяева, «есть своеобразно-аскетическая книга, как бы наставление к духовной жизни революционера. И предъявляемые им требования суровее требований сирийской аскезы. Революционер не должен иметь ни интересов, ни дел, ни личных чувств и связей, ничего своего, даже имени. Все должно быть поглощено единственным, исключительным интересом, единственной мыслью, единственной страстью – революцией»[xvii]. На более высоком моральном и культурном уровне подобная же искренняя «слепота веры» была свойственна и Л. Толстому («зеркалу русской революции»), который в своих публицистических статьях пытался заново осознать и истолковать христианское учение и на этой основе перестроить принципы общественной жизни. И это не только личная религиозная трагедия Л.Толстого, это трагедия и русской Церкви, которую к концу XIX века, по словам С.Булгакова, почти поголовно покинула русская интеллигенция[xviii], и трагедия русской истории, утратившей в своем движении четкие ориентиры христианской истины.
Впрочем, если говорить о русской истории, то она вся насыщена подобным драматизмом и катастрофичностью – в этом специфика ее диалектики, определяемой внутренней полярностью Русской идеи, перманентным динамическим противоречием между духовным идеалом и исторической реальностью. Данный этап русской истории, в этом смысле, имеет вполне отчетливую логику, связанную с освоением всего эмпирического диапазона (или предела) Русской идеи: достижением ее «земного» полюса, осуществляемого как в сфере русского самосознания (материализм), так и в реальной социально-политической практике (социализм). Слияние идей материализма и социализма выглядело как откровение, как заветный берег – как мессианская материализация Русской идеи, к которому безоглядно устремилась русская революционная воля. В этом было большое историческое дерзновение и искушение, но была и культурно-историческая незрелость, духовно-религиозная непросветленность, «не различение духов». Отказавшись от небесного смысла Русской идеи, русский дух целиком обратился к ее земному модусу, попытавшись тут же осуществить общественный социальный идеал в конкретной национальной истории. При этом весь потенциал Русской идеи, ее эмпирический «центр тяжести» сместился в сторону своей земной составляющей, и ладья русской истории в очередной раз перевернулась, окунув русский народ в соленое море страданий.
Дисбаланс русского самосознания, накапливавшийся на протяжении всего XIX века, привел к своему закономерному результату. Крайняя историческая поляризация русского духа обернулась крахом русской государственности. Уход Церкви из актуальной истории в область небесного (где небесное есть «загробное») и погружение общества в область земного (где земное – синоним атеизма) означал полный распад Русской идеи, разрыв ее целостной духовно-исторической сущности. Это и ознаменовало собой конец земного пути традиционной русской государственности, начавшейся именно как единство живого христианского духа и конкретной национальной истории.
Но могла ли иначе складываться русская история в XIX–XX в.? Думается, что нет. Истинное национальное самосознание, как путь к истинному историческому самоопределению народа, складывается из искреннего самопознания через освоение всего реально-исторического диапазона национальной идеи как дерзновенное осуществление ее заданий в реальной исторической практике. Ибо национальная идея – это не отвлеченная и условная мировоззренческая формула, а конкретное задание национальной истории, которое рано или поздно должно быть осуществлено в практике реальной жизни. С этой точки зрения, жертвенный исторический подвиг русской интеллигенции XIX века, как и подвиг советского народа в XX веке, имеет безусловное историческое оправдание. Крах традиционной русской истории не был ее аннигиляцией. Даже в своей односторонней (половинчатой!) форме безрелигиозного социализма Россия явила миру великую Советскую цивилизацию XX века, что является неопровержимым свидетельством необычайной творческой силы Русской идеи, феноменологическим подтверждением ее исторической реальности и ступенью к дальнейшему, качественно новому, расцвету русской цивилизации XXI века.
Выбор между Февралем и Октябрем
По напору внутренних противоречий Россия накануне 1917 года явно находилась в крайне неустойчивом, кризисном состоянии. С одной стороны, к этому времени созрело множество новых общественно-политических, мировоззренческих, социальных и экономических тенденций национальной жизни, сформировавшихся в конце XIX начале XX века; и, с другой, – в условиях старой системы власти не было возможности их реализации. Новое повсеместно входило в конфликт со старым: конституционные свободы и самодержавие, революционный пафос и консервативная реакция, капитализация крестьянства и традиционная община, идеи социализма и окрепшая буржуазия. Это и означает идеологический кризис: здесь многовековой идеологический монолит старой православно-монархической России окончательно распался на несколько самостоятельных идеологических начал, ищущих какой-то иной системы связей, способной предстать в качестве нового целого национального бытия.
При этом новое в революции отнюдь не синоним чего-то определенно предметного – это всего лишь свободный идеологический потенциал, который не нашел еще своей реальной формы, еще не имеет места в системе реальности. Поэтому новое в революции принципиально многообразно, полифонично и дискретно и входит в конфликт не только со старым, но и с подобным себе новым. Отсюда и рождается идеологическая смута как всеобщее системное противостояние и неопределенность. На рубеже революции Россия смутно представляла, чего же она хочет в ближайшей истории, точнее, она хотела сразу очень многого: гражданских свобод, конституционной монархии, социализма, европейского либерализма, церковного обновления, еврейского равноправия, земли крестьянам, власти народу и т.д. и попыталась вместить все это в Февраль 1917-го. Конечно, ничего не получилось… Очевидно, что это еще не было сущностным содержанием революции, но лишь формальным утверждением решимости системы перейти в новое качественное состояние, которое, тем не менее, еще идеологически не проявлено в хаосе множества внезапно актуализированных (ставших возможными) идей распавшегося национального сознания. Этот идеологический хаос есть некая пауза национальной истории, своего рода «переход через смерть». Смута, беспомощность и разруха – ее неотъемлемые черты.
Однако постепенно в хаосе идеологической какофонии появляется доминантная идеологическая нота, вокруг которой начинает кристаллизоваться в своих предметных (правовых) формах новая национальная государственность. Случай ли исторической судьбы определяет из множества идеологических претендентов эту доминанту? Или она формируется кучкой наиболее ловких манипуляторов общественным сознанием? На наш взгляд – ни то, ни другое. Эта идеологическая доминанта есть глубокий и обновленный голос национальной идеи, прорвавшийся сквозь толщу идеологического хаоса революции (как через смерть) и услышанный, узнанный национальным народным духом. Дальше новую жизнь, новые формы национального бытия уже ничто не остановит, ибо «не вливают вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» [Мф.9.17]. Так, через идеологически обновленную национальную идею осуществляется преемственность национальной истории в катаклизмах революции.
Это, конечно, идеальная и несколько условная схема революции, реальность много сложней и трагичней. В революции глубочайшим и непредсказуемым образом переплетены два ее аспекта: субъективная реальность революции, осуществляемая конкретными субъектами политической воли, и объективная заданность национальной эволюции, определяемая структурой национальной идеи. От того, как распределятся силы революции, от того, какой фактор, субъективный или объективный, будет доминировать в ходе революции и насколько они будут друг другу соответствовать, и зависит характер и результат революции, ее органичность или катастрофичность. Но в любом случае революция необратима, т.к. по своей сути является лишь элементом более широкого процесса исторической эволюции, одним из ее механизмов.
В связи с метафизически сложным существом революции в общественной мысли часто возникают споры о ее «искусственности» или «естественности». Ввиду важности этого вопроса и для наших дней, представляют интерес размышления по этому поводу П.Струве, в которых он, исходя из формально-правовых аспектов революции, приходит к выводу о принципиальной неразрывности того и другого. Признавая эволюционнй характер революции как определенный механизм перестройки правовой системы общества, назревающей в недрах самого общества и проявляющейся в виде смуты или бунта, П.Струве, в то же время, выделяет в революции определленого умышленного носителя (субъекта) новой системы права, подчеркивая тем самым, что не может быть бессубъектной революции. Сочетание этих факторов и придает революции некоторую парадоксальную таинственность: «Революция есть, конечно, в одном аспекте какой-то процесс, совершающийся в людях и над, или с людьми. Это верно именно в том аспекте, в котором революция совпадает с эволюцией. Но в другом аспекте, и именно в том, который отграничивает революцию от эволюции, революция есть всегда умышленное действие, предполагающее деятеля (деятелей) или субъекта (субъектов). В этом смысле можно сказать, по видимости, парадоксально, но совершенно точно: революции никогда не происходят, они всегда делаются. Обратное верно только при подмене понятия революции, всегда соотносимого к понятию права и всегда предполагающего субъектов или деятелей «изменения», более общим… понятием эволюции. В этом общем смысле можно сказать прямо обратно: революции никогда не делаются, а всегда происходят»[xix].
При таком сложном сочетании объективных и субъективных факторов революция всегда остается очень динамичным и до конца не предсказуемым явлением общественной жизни. Однако, если принять к рассмотрению идеологический подтекст революции, проявляющийся как борьба определенных идеологических субъектов общества, то сам механизм революции вполне поддается структурному анализу. В этом разрезе общую идеологическую механику революции в контексте эволюции можно представить в виде следующих пяти этапов:
– внутренний эволюционный распад идеологического единства общества на несколько потенциальных идеологических альтернатив;
– идеологический кризис общества, сопровождающийся коллапсом старой идеологической системы и разрушением правовой организации общества;
– идеологический и правовой хаос как борьба политических субъектов, носителей альтернативных идеологий;
– появление новой идеологической доминанты и консолидация на ее основе новой правовой системы общества;
– легитимизация нового идеологического единства общества как следующая ступень национальной эволюции.
Эта общая схема вполне пригодна для системного анализа как первой русской революции 1917-го, так и второй – конца XX века, с той лишь разницей, что последняя еще не закончилась…
1. Итак, к началу XX века в России ослабло и в 1917-ом окончательно распалось идеологическое единства общества, основанное на православно-монархическом самосознании русского народа. Интеллигенция отвернулась от православия, а народ – от своей исконной веры в царя-батюшку. Первая революционная волна 1905 года расколола монолит традиционной государственности и ввела Россию в исторически неустойчивое состояние. Активное политическое самоопределение различных идеологических течений развившихся во второй половине XIX века (социалисты, конституционные демократы, анархисты и т.д.), расшатывало правовую систему общества. «Монархия не могла править Думами, состоящими из социалистов и республиканцев. Это ясно», – замечал по этому поводу Г.Федотов[xx]. Нарастала острота общественного противостояния: революционный террор порождал политическую реакцию. Мировая война, хозяйственные трудности, вызванные перенапряжение государственного организма, и неудачи на фронте довершили дело.
2. В итоге к началу 1917 года идеологический кризис общества перешел в Февральский переворот – коллапс старой идеологической и правовой системы общества. О том, что в этом была объективная историческая неотвратимость свидетельствует как сама легкость политической механики государственного переворота, так и то единодушие (за редким исключением), с которым была встречена Февральская революция. Сам факт добровольного отречения государя свидетельствует так же именно об этом – Николай II просто по-христиански смирился с безысходной исторической неизбежностью; и общество, и интеллигенция, и народ, и церковь (в лице Синода), и армия (генералитет) приняли этот факт как историческое благо. Поэтому в Феврале не было особых проблем, по лаконичному выражению В.Розанова, «Русь слиняла в три дня…»
Главный факт этого этапа революции состоит в признании объективной исчерпанности самодержавно-монархической истории России. Во многом совершенная, отточенная за века, но застывшая в своих формах православно-монархическая государственность, воспринималась живым самосознанием нации как тормозящий ее дальнейшее историческое развитие фактор. В рамках этой государственности уже не умещался тот новый уровень мировоззренческой и миссионерской задачи, которую русский дух начал ощущать в глубинах своего самосознания – новые смыслы требовали новых форм. История не выдерживает завершенности, созревший плод падает. Именно историческая завершенность и усталость православной государственности обнажила ее неспособность (и нежелание) к качественному внутреннему преображению – монархия исчерпала свой исторический ресурс.
Мы склонны идеализировать прошлое, и в этом есть своя идеологическая правда, но реальная история принципиально наполнена несовершенством, и поэтому должна быть преодолена. В преодолении собственной истории и состоит национальная эволюция. При этом сущность эволюции – не в количественном, а в качественном преображении общества, т.е. в обновлении или смене идеологической парадигмы, что невозможно вне революционных переходов той или иной степени тяжести.
3. Приход к власти Временного правительства и провозглашение новых гражданских свобод не стало окончанием революции, но, наоборот, ввело ее в наиболее глубокую фазу: в стране наступил идеологический и правовой хаос как проявление активной политической борьбы между субъектами альтернативных идеологий. В правовом отношении это выражалось в двоевластии – противостоянии Временного правительства и Советов, что явилось самым принципиальным моментом революции, отразившем ее цивилизационный и эволюционный смысл. Дело в том, что система либеральных свобод и конституционной демократии, которую декларировало Временное правительство, являлось для России открытым путем на Запад – полным слиянием с ним в идеологическом, геополитическом, экономическом, культурном и цивилизационном смысле. Но Россия в эту исторически открытую дверь в Европу почему-то не пошла, а обратилась в обратную сторону – к еще неведомой целине собственной самобытной истории. Здесь уже на уровне реальной истории вновь проявилось старое противостояние между западниками и славянофилами, и выбор вновь был сделан в пользу самобытности и исключительности русской истории. Противостояние между Временным правительством и Советами не было простой позиционной борьбой за власть внутри общего революционного потока. Как пишет С.Кара-Мурза: «Эти два типа власти были не просто различны по их идеологии, социальным и экономическим устремлениям. Они находились на двух разных и расходящихся ветвях цивилизации. То есть их соединение, их «конвергенция» в ходе государственного строительства были невозможны. Разными были фундаментальные, во многом неосознаваемые идеи, на которых происходит становление государства, – прежде всего представления о мире и человеке»[xxi]. В интервале между Февралем и Октябрем, в таинственной мертвой зоне национальной истории происходило новое самоопределение русской цивилизации. Причем, ввиду очевидной слабости Временного правительства, определявшейся в первую очередь национально-исторической беспочвенностью его идеологических установок, процесс этот происходил вполне мирно и естественно: «По сути, – пишет С.Кара-Мурза – никакой революции в Октябре не было, был просто закреплен факт: Временное правительство иссякло, его власть перетекла к Советам»[xxii].
4. Октябрь лишь констатировал укрепление новой идеологической доминанты и положил решительное начало новой правовой самоорганизации общества. В чем же смысл выбора Октября? В чем притягательное для русской истории содержание «новой идеологической доминанты»? Если сказать одним словом – это социализм. Тот социализм, о котором мыслило русское общество в течение почти всего XIX века. Напротив, Временное правительство помимо своего либерализма и аристократизма, как известно, было буржуазным, т.е. выражало собой то идеологическое начало капитализма, которое безоговорочно отвергалось славянофильской традицией русской мысли и традиционным народным строем. Оно идеологически было обречено. Как пишет по этому поводу Н.Бердяев: «В России революция либеральная, буржуазная, требующая правового строя, была утопией, не соответствующей русским традициям и господствовавшим в России революционным идеям. В России революция могла быть только социалистической»[xxiii]. С этим выводом соглашается и И.Шафаревич: «Существует, правда, такая точка зрения, что при выборах в Учредительное собрание большевики получили всего лишь четверть голосов, а эсеры – половину. Но все равно выходит, что подавляющая часть народа «голосовала за социализм». Я бы не придавал слишком большого значения голосованию, подсчетам голосов в ту эпоху крайнего безвластия и насилия, разлившегося на всех уровнях, но, безусловно, верно, что шансы на успех тогда имели только партии социалистического направления»[xxiv].
Общепризнанно, что судьбу русской революции в конечном итоге определило крестьянство, составлявшее до 85% населения тогдашней России. Именно крестьянство традиционно опиравшееся на общинные начала социальной жизни, остро чувствуя неправду надвигающихся на деревню капиталистических отношений, являлось органичным носителем и выразителем антибуржуазных настроений в обществе. В этом отношении земельная реформа Столыпина, делавшая ставку именно на капитализацию деревни, была очень рискованным мероприятием, с одной стороны, повышая экономическую эффективность индивидуальных хозяйств, с другой, прямо разрушая традиционный общинный уклад деревни. А это затрагивало сам фундамент русской государственности. Еще в середине XIX века А.Хомяков, говоря о фундаментальном значении крестьянской общины, писал: «Община есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории. Отними его, не останется ничего; из него же развиться может целый гражданский мир»[xxv]. Фактически в начале XX века это в России и произошло: распад старой формы общинности ознаменовал распад традиционной государственности, новая опора на общинность привела к новой форме русской государственности – социализму. Заметим, что Советы — это также одно из проявлений общинной самоорганизации.
В связи с крестьянской темой в русской революции иногда высказывается мысль о примитивно-архаичной природе установившегося в России крестьянского социализма, исходящего якобы из патерналистской отсталости русского крестьянства, оказавшегося в основной своей массе не способным вместить прогрессивные освободительные идеи Февраля. При этом забывают как о глубокой внутренней духовно-христианской правде крестьянской общинности, так и об огромной интеллектуально-мировоззренческой работе русской народнической интеллигенции, поднявшей начала русской общинности на новую социально-мировоззренческую высоту. Но даже если отвлечься от этих духовно-мировоззренческих основ русского социализма, то и в самой архаической предрасположенности русского народа к общинному социализму нет ничего предосудительного, ибо по сути это есть не что иное как проявление здорового закона органической самоорганизации социума, прямая реализация в обществе инстинкта социальной справедливости.
Таким образом, в социализме, который открыл для русской истории Октябрь 1917-го, русский народ узнал фундаментальные начала своего национально-исторического бытия: как с точки зрения патриархально-хозяйственного уклада народной жизни, так и с точки зрения духовно-мировоззренческих представлений. С этой последней, мировоззренческой точки зрения сама революция в целом может рассматриваться как духовно-религиозный протест народного самосознания против нарастающего духа буржуазности, воспринимаемого народом как наступление на его традиционные христианские принципы жизнеустройства и миропонимания. Здесь уместно еще раз напомнить, что капитализм есть экономическая проекция протестантской (а точнее, иудейской) религиозной этики, и национальный дух отшатнулся от него в противоположную сторону, надеясь утвердить свою православную экономическую этику на началах социализма.
5. В итоге, достаточно естественным и закономерным образом в общественном сознании произошла легитимизация нового идеологического единства общества на базе социализма – следующей ступени национально-исторической эволюции. Россия не пошла по пути Запада и не остановилась на полпути (что, в общем-то, в истории и невозможно), но продолжила строительство своей самобытной цивилизации в новых идеологических формах, реализуя свое глубокое стремление к осуществлению в реальной истории национального социального идеала. При этом сложное духовно-мировоззренческое существо национальной идеи, деформировавшись в материалистических потоках XX века, приняло форму коммунистической идеи, где социализму отводилась роль первой, переходной, и не самой значительной, ступени. Становящийся социализм предстал в предельно упрощенном, сугубо материалистическом, утилитарном виде, полностью лишенным своих христианских начал.
Но могло ли быть иначе? Мог ли социализм сразу появиться на арене русской истории в своей онтологической полноте как христианский социализм? Представляется, что нет. Неумолимая диалектика истории говорит о том, что невозможно реальное появление качественно нового общественно-исторического бытия (чем, без сомнения, является социализм) на базе старых идеологических оснований. Идеологическая революция как глубокое обновление форм и содержания национального бытия была в этом смысле неизбежна. Под «горячую руку» революции вместе со старыми формами государственности попало и православие, как одна из ключевых опор старой государственной идеологии. Здесь обнажается главная трагедия Октября – русское историческое самосознание теряет из виду путеводную звезду христианства, становясь беспомощным объектом разного рода идеологических и политических заблуждений.
И здесь мы переходим от объективно-идеального (историософского) смысла русской революции к ее реально-историческому облику. Чтобы правильно понять место и значение Октябрьской революции в русской истории, необходимо четко разграничивать два этих плана. Цивилизационный выбор Октября как идеальное (мессианское) устремление национального духа – это одно (объективная эволюционно-историческая необходимость), а конкретная революционно-политическая цена этого выбора в реальной истории – совсем другое (субъективное сочетание эмпирических факторов). Если идеальная сфера национально-исторической метафизики в этом отношении принципиально чиста и гармонична, то земная ткань политической реальности, наоборот, всегда отличается очень жесткой и дисгармоничной структурой – такова специфика грешного мира. Как это ни печально, но этому соотношению подчинена и сама русская история в целом и отдельные ее эпизоды – русская революция здесь не исключение.
Даже нынешний, значительно менее фундаментальный цивилизационный переход России от зашедшего в тупик атеистического коммунизма к демократическому «цивилизованному обществу», имеющий, казалось бы, полную легитимность сознательного национально-исторического выбора, также оказался далеко не идеальным, обернувшись в своей эмпирической практике очередной тяжелейшей национальной катастрофой. И это не вина объективного исторического общественного выбора – это проблема реальной политики с ее предельно жестким приоритетом субъективного фактора.
Еврейство в русской революции
Одним из таких принципиально важных «субъективных» моментов русской революции, не читаемых в плоскости объективно-исторического дискурса, является активное участие в ней еврейства. Если объективно-исторический (цивилизационный) смысл русской революции вполне просматривается без учета еврейского фактора, то реально-исторический (политический) облик революции без этого фактора понять сложнее, – слишком много встречается в ее конкретном содержании необъяснимых с точки зрения национально-исторической адекватности противоречий. Факт непропорционально огромного участия евреев в русской революции общеизвестен, поэтому мы не будем углубляться в детальное рассмотрение данного вопроса (об этом есть вполне подробные исследования В.Шульгина, И.Шафаревича, А.Солженицина и д.р.), а ограничимся наиболее принципиальными замечаниями по осмыслению данного факта.
Для начала уместно вспомнить выше приведенную мысль П.Струве о том, что «революции никогда не происходят, а всегда делаются». Так вот, наиболее активным делателем русской революции, как это ни странно звучит, можно считать еврейство. Не в том смысле, что евреи сделали революцию из ничего, как это иногда считается, это как раз далеко не так, а в том, что во многом взяли на себя ее конструктивный процесс. К этой роли (быть катализатором революции) еврейство приводит как объективная духовно-идеологическая специфика национального самосознания, так и конкретное социальное положение в традиционных обществах. Имея основанием своего национального самосознания талмудический иудаизм, т.е. онтологическое антихристианство, евреи в христианском мире предстают как естественные идеологические антагонисты существующих традиционных обществ. Поэтому революционность еврейства (как реализация внутренней оппозиционности) органична их духовно-мировоззренческому строю, что и проявлялось практически во всех революционных событиях человеческой истории.
В этом смысле евреи всегда открыты к новой истории, религиозно заинтересованы в преобразовании этого мира как предвосхищении своего мессианского предназначения в нем: «ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» [Втор.7.6]. Это, по существу, и есть национальная идея евреев, преобразующаяся на экзистенциально-историческом уровне в право диктовать миру свою ветхозаветную волю. Именно здесь заложен революционный радикализм еврейства как способность к бестрепетному отрицанию и низвержению различного рода национальных традиций. Стремление перевести всякую национально-консервативную систему отношений на более свободный космополитический уровень и делает еврея перманентным катализатором революционных общественных изменений. Ибо революция тем и отличается от эволюции, что в ней происходит болезненный разрыв традиционный социальных связей, в то время как в эволюции, наоборот, эти связи лишь органически развиваются и крепнут.
Евреи всегда активны в истории, но не они создают революционные движения (как это иногда представляют), но скорее умело используют соответствующие исторические процессы в своих национально-стратегических интересах. Как чуткие барометры общественных настроений они всегда способны оценить динамику противоречия в чужом обществе и, подпитывая его в нужном направлении (финансово, политически, информационно), получить желаемый результат. Поэтому они на волне всех революций, революционных течений и исторических потрясений. При этом, будучи максимально свободными от национально-традиционных и общехристианских норм, евреи несут в себе наиболее разрушительный революционный пафос. «Евреи радикализировали и революционизировали социалистическое движение», – замечает по этому поводу И.Шафаревич[xxvi]. Таким образом, сочетание в еврейском самосознании факторов «национальной избранности» и «национальной отчужденности» делает еврейскую общественно-политическую активность в традиционном обществе объективно противоречивой и деструктивной. И это своего рода имманентная трагедия еврейского народа. Говоря об искажении древнееврейского мессианизма в характере еврейского национально-исторического самосознания XIX–XX веков, Н.Бердяев отмечает эту особую внутреннюю двойственность еврейского духа: «В нем есть иная, искаженная и извращенная форма мессианизма, есть ожидание иного Мессии, после того как истинный Мессия был еврейством отвергнут, есть все та же обращенность к будущему, все то же настойчивое и упорное требование, чтобы будущее принесло с собою всеразрешающее начало, какую-то всеразрешающую правду, и справедливость на земле, во имя которой еврейский народ готов объявить борьбу всем историческим традициям и святыням, всякой исторической преемственности»[xxvii].
Социалистическая идея развивалась как объективная потребность исторического развития общества, как попытка преодолеть эмпирическую социальную несправедливость, неравенство и эксплуатацию, и эта идея имеет собственный христианский генезис. Еврейство же видело в социализме в первую очередь новую историческую силу, способную «разрушить до основания» старый (христианский) мир, в котором еврейству никогда не было равноправного места. Таким образом, в социализме русской революции, сошлись и усилили друг друга две противоположные тенденции: созидания нового мира (импульс от христианства) и радикального разрушения старого (импульс от иудаизма). Сочетание этих двух потоков в социалистическом движении изначально предопределило всю двойственность, неоднозначность и противоречивость его исторической реализации.
Было, конечно, и более здоровое влечение еврейского духа к социалистическим революционным идеям, особенно с появлением марксизма, в котором эмансипированное от своих религиозных традиций революционное еврейство (как и русская интеллигенция) увидело возможность скорой реализации надежд человечества на «равенство, свободу и братство» в форме полного снятия каких бы то ни было национальных, религиозных, социальных и экономических барьеров. Именно с марксизмом в начале 90-х годов XIX века в русскую революцию начался заметный приход еврейской молодежи. Тем не менее, одно не противоречило другому. И историческое мессианство еврейского духа, и страсть к разрушению старого мира и жажда освобождения от вековой гражданской закрепощенности сошлись для евреев в русской революции XX века.
Еврейство сделало на русскую революцию очень серьезную ставку. Фактически это была самая решительная актуализация еврейского духа в реальной истории за весь двухтысячелетний период рассеяния. Именно на рубеже XX века еврейское национальное самосознание начало вновь активно самоопределятся в качестве полноценного субъекта истории (в это время проходят съезды, конгрессы, появляются «протоколы», оформляется сионизм и т.д.). Почувствовав слабость России и наблюдая огромные энергии, высвобождавшиеся в русской истории накануне кризиса (что естественно для системы теряющей старую структуру), еврейство попыталось оседлать эту энергию и направить ее в нужное для себя русло.
Наиболее активно евреи влились в революцию накануне 1905 года, когда стало ясно, что самодержавие зашаталось. Причем это касается не только русского еврейства, но и мирового. Через систему глобальных национальных связей, для которых границы государств никогда не являлись серьезным препятствием, мировое еврейство, имевшее уже тогда огромное финансовое (банки) и идеологическое (пресса) влияние на мировую политику, сосредоточило свое давление на России с целью освобождения еврейского народа, а заодно и максимального ослабления России как «реакционной» государственности. Следует отметить, что Россия имела у себя в начале XX века самую большую еврейскую диаспору и при этом формально сохраняла (вплоть до Февраля 1917г.) в отношении евреев наиболее широкую систему гражданских ограничений (черта оседлости, ограничения на госслужбу, процентные нормы в учебных заведениях и т.д.), что, конечно, вносило особое болезненное напряжение в общественно-политические процессы. Этот фактор, слияние русской революции и идеи «освобождения евреев», стал глубокой особенностью революционных событий начала XX века, наложившей неизгладимые субъективно-исторические черты как на ход революции, так на ее последствия и результаты.
Если дух революции выступал в основном как стихийное проявление в общественном сознании эволюционной потребности русского национального бытия, то практическое оформление этой потребности на политическом уровне почти естественно взяло на себя еврейство. Это была та единственная область государственной деятельности, где для евреев не было никаких ограничений. В списочных составах большинства революционных партий евреи составляли от 30 до 50%, в руководящих органах – значительно больше. Рационалисты, практики и тонкие прирожденные конспираторы, всюду имеющие родственные связи, евреи во многом взяли на себя реализацию революции на всех ее видимых и невидимых уровнях: в общественном сознании (либеральная пресса), в правительственных интригах (Распутин), во внешней политике (мировые банкиры), в народной стихии (агитаторы), в подпольной и террористической деятельности, …ну и, конечно, в открытой борьбе политических партий. Очевидец тех дней В.Шульгин отмечает: «…всюду и везде – в собраниях, союзах, организациях, манифестациях, съездах, которые тогда входили в моду… и, особенно в печати, заправилами явными или закулисными были евреи. Меня всегда удивляло, когда люди удивлялись, каким образом после февральской революции 1917 года всюду очутились евреи в качестве руководителей (эта же традиция перешла и к большевикам, когда совершилась революция октябрьская). Эти удивляющиеся люди как будто бы проспали четверть века! Они не замелили, как еврейство за это время прибрало к своим рукам политическую жизнь страны»[xxviii]. Более конкретное представление дает, в частности, замечание А.Солженицина: «А выше всего, надо всею Россией, с весны до осени Семнадцатого – разве стояло Временное правительство, бессильное и безвольное? – стоял властный и замкнутый Исполнительный Комитет Петросовета, затем, после июня, и перенявший от него всероссийское значение Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК)… В президиуме первого всероссийского ЦИК СРСД (первое управление Россией Советами) вошло 9 человек. Тут и эсер А.Гоц, меньшевик Ф.Дан, бундовец М.Либер, эсер М.Гендельман… виднейший большевик Л.Каменев. А еще грузин Чхеидзе, армянин Саакян, вероятно поляк Крушинский и вероятно русский Никольский, – дерзкий состав для направителей России в критический момент»[xxix].
Однако в политической динамике перехода от Февраля к Октябрю заслуживает внимания одно довольно интересное обстоятельство. Еще со времен противостояния с Бундом (еврейская национальная социалистическая партия), а также размежевания с меньшевиками (среди которых также преобладало еврейство), большевики представляли собой, по крайне мере по составу, наиболее русскую социалистическую партию. А.Солженицин отмечает: «Составы ЦК социалистических партий известны. Причем в ходе 1917 года в руководстве меньшевиков, правых эсеров, левых эсеров и анархистов численность евреев была много больше, чем в большевиках»[xxx]. Это обстоятельство, имеющее без сомнения тонкую мировоззренческую подоплеку, остро проявилось в Октябре, когда большинство мелкобуржуазных социалистических партий выступили резко против большевицкого переворота. В этом есть некое, иногда трудно уловимое в дебрях революционной стихии, подтверждение того, что социалистическая Революция в России была все-таки русской! Анализируя национальное отношение евреев к Февралю и Октябрю, А.Солженицин пишет: «В августе на московском Государственном Совещании О.Грузенберг… заявил: «В эти дни еврейский народ… охвачен единым чувством преданности своей родине, единой заботой отстоять ее целость и завоевания демократии» и готов отдать обороне «все свои материальные и интеллектуальные средства, отдать самое дорогое, весь своей цвет, всю свою молодежь». Это было сказано в сознании, что февральский режим – самый благоприятный для российского еврейства, что он сулит ему экономические успехи и политический и культурный расцвет. И это сознание было – адекватное. И чем ближе к Октябрьскому перевороту, чем явственней росла большевицкая угроза, – тем еврейство все шире проникалось эти сознанием и становилось все более оппозиционным к большевизму. – Это уже перетекло и на социалистические партии, и многие еврейские социалисты в дни Октябрьского переворота были активно против него… И надо отчетливо сказать, что и Октябрьский переворот двигало не еврейство…»[xxxi].
Однако в дальнейшем, после победы большевиков этот русский дух большевизма заметно повыветрился, произошло перетекание «прогрессивных» революционных сил – на ключевые и руководящие посты всех уровней новой власти пришли представители еврейства. Советская власть была принята еврейством как своя власть, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Чтобы понять, что это значило для России, какой кардинальный переворот всего строя национальной жизни, надо осознать, что евреи оказались на вершине власти в России буквально через 2-3 года после черты оседлости, ограничений на занятие государственных должностей, запрета на офицерское звание и т.д.. И тут в одночасье: Троцкий (Бронштейн) – командующий армией, Свердлов – руководитель правительства, и т.д. и т.д. и т.д… Вот уж действительно, «кто был никем, тот станет всем». В этом факте зримо проявился огромный цивилизационный диссонанс и трагедия русской революции как полная утрата ею своего национального лица. Гражданская война в этом смысле была не войной за самодержавие или против социализма, а во многом войной за национальное лицо русской Революции и новой России.
Огромный национальный перекос Советской власти резко извратил и саму идею социализма, ради которой совершилась революция. И это принципиальный момент для понимания судеб социализма в XX веке. В тотальном еврейском руководстве строительством реального социализма проступал по духу не социализм христианский и даже не просто атеистический социализм, а социализм в его крайнем антихристианском варианте. Отчетливый дух антихристианства, в его сознательном и бессознательном проявлении, привнесен в первые радикальные годы «военного коммунизма» именно еврейством. Это качественное несоответствие идей и последствий революции в чутком народном сознании обернулось парадоксальным противопоставлением большевиков и коммунистов. «Зачастую люди из низших слоев народа называют себя большевиками и с отвращением говорят о коммунистических правителях, – пишет С.Франк. – Это странное недоразумение иногда перерастает в легенду, будто бы произошедшая в Октябре 1917 года славная и обнадеживающая большевистская революция, имевшая целью установить настоящее крестьянское и рабочее правительство, потерпела поражение и каким-то образом позднее (когда – остается здесь, естественно, неизвестным) коммунисты и евреи (которые совершенно не отличаются друг от друга) захватили власть и тем вновь обрекли народ на рабство и нужду. Под этой легендой скрывается тот несомненный факт, что народ, с воодушевлением поддержавший революцию, рассматривает ее как неудавшуюся; большевики обещали свободу и народную власть… но после революции большевики оказались коммунистами, иноземными господами, имя которых народу совершенно непонятно, а из-за их хозяйственной политики, столь обременительной для крестьян, из-за притеснений и насилий, преследований церкви и засилью евреев в правительстве, коммунистов стали ненавидеть»[xxxii]. Впоследствии в сталинской России, в конце 30-х годов, была предпринята попытка освобождения социализма от радикализма еврейского влияния, однако, ввиду того, что базой объединения изначально являлся атеизм, сделать это на глубоком идеологическом уровне было невозможно, безродный космополитизм остался хронической болезнью советского социализма.
Таким образом, русская революция и еврейство – это две параллельные темы, которые глубоко и неразрывно слились в исторической судьбе России, многократно усилив друг друга; но которые, тем не менее, поддаются отчетливому дифференцированному осмыслению так необходимому ныне русскому самосознанию. Только осознав позитивное направление русской революции в контексте национальной эволюции, отделив в ней объективно-историческое от исторически-субъективного, можно по существу оценить значение Октября для грядущих судеб России. Что крайне необходимо для преодоления идеологического барьера нынешней русской смуты.
В то же время опасно упрощать историю, сводя ее к какой-то одной линейной направленности или схеме. История есть поток огромного множества тенденций, логик и смыслов как отражение деятельности огромного множества ее субъектов, каждый из которых имеет свою логику, свой смысл, свое творческое начало и свою… историю. Выдергивание из этого потока какого-то одного смысла, одной нити есть не постижение истории, а спекуляция на истории. История есть целое – единое, синхронизированное во времени бытие необозримого множества ее малых и великих участников, где каждый субъект истории связан с другими нерасторжимыми взаимоопределяющими связями, где даже противоположности по существу – лишь отражения друг друга.
Еврейская тема в русской истории все еще не закрыта… Более того, последний русский кризис вновь обострил этот вопрос до предела. Обидно, что мы не сделали выводов из предыдущих уроков истории. Все повторилось почти по старой схеме, только более «культурно» и грамотно, от этого, однако, не легче. Очередная объективно-историческая революция в России обернулась национальным крахом, на волне которой вновь оказалось русское еврейство.
Мы все были очевидцами последних событий и прекрасно помним, что волна действительно была народной как движение национального духа к новому уровню свободы, к какому-то новому, еще неведомому берегу, новому историческому самоопределению. Однако эта волна была чисто интуитивной и бессознательной как высвобождающаяся энергия нации, прорывающейся к своей новой исторической реализации. Никакой положительно-цельной идеи и цели, кроме отказа от прошлого, у этого общественного движения не существовало (и в принципе не могло существовать, ибо до точки бифуркации система «не знает» своего будущего). Еврейство же, в отличие от русской национальной элиты было и есть в высшей степени сознательно и расчетливо, и именно эта историческая расчетливость позволила еврейству реализовать очередной российский кризис с максимальной для себя выгодой, выполнив при этом и свою глобально-историческую задачу, навязав «бессознательной» России либерально-капиталистическую идеологическую схему. В этой схеме мы опять теряем свое национальное лицо и оказываемся прочно вписанными в координаты нового мирового порядка. Причем, нынешняя реформированная Россия предстает как та самая долгожданная буржуазная реставрация, в которой русское еврейство почувствовало себя, наконец, исторически и социально вполне комфортно. Ибо именно такой представляло себе «возрожденную» после большевиков Россию ортодоксальное еврейство еще в 20-х годах прошлого века. «Великое счастье русского еврейства, – писал тогда один из его лидеров, – состоит в том, что его интересы целиком совпадают с интересами обновленной России. Не социализм, который в данных условиях должен выродиться в большевизм, отвечает экономическим интересам еврейской массы, а именно буржуазно-собственнический строй. Не всеподавляющая полицейская власть государства, а самодеятельная свободная личность оздоровит наше еврейство»[xxxiii]. Ибо «с еврейской точки зрения можно утверждать: счастье России и всех ее народов в том строе, который был возвещен в декретах марта 1917г…»[xxxiv]. Без сомнения, и нынешнее «ново-русское еврейство» придерживается этого мнения…
Ныне многое известно об огромном влиянии еврейства на результат как первой, так и последней русской катастрофы, но мы не должны терять за этими извращенными формами истории ее объективное содержание – поступательную тенденцию русской истории и русского духа. В любом случае именно русский дух определял и определяет самобытную историю России, ее величественную поступь. Тысячелетняя инерция русской истории, ее мессианская устремленность в будущее не может быть остановлена какой бы то ни было исторической интригой, подлостью или заговором. Наоборот, преодоление подобных преград как преодоление исторических искушений лишь укрепит русский дух в его стремлении к своим историческим целям; очистит его самосознание, укрепит его волю, мобилизует к новым, еще более крепким, формам национально-государственной самоорганизации.
В этом отношении проблема еврейства – это лишь отражение слабости русского духа и русского самосознания, извращающая его национально-христианское историческое бытие и творчество; преодоление этого комплекса – «окончательное решение» еврейского вопроса русским национальным сознанием – будет тем рубежом, за которым откроется действительно независимая, самобытная история новой России. Ныне есть все предпосылки подобному исцелению: история XX века не только предоставила в отношении данного вопроса неисчерпаемую информацию к размышлению, но и само существование России как самобытной цивилизации поставила в зависимость от его разрешения.
[i] Цит. по: Самарин Д. Поборник вселенской правды // Славянофильство: pro et contra. — СПб., 2006. С.495.
[ii] Карелин Ф.В. Царство святых. — (http://chri-soc.narod.ru/).
[iii] Федотов Г.П. Трагедия древнерусской святости // О святости, интеллигенции и большевизме. — СПб., 1994. С.49.
[iv] Бердяев Н.А. Русская идея. — М., 2000. С.12-13.
[v] Там же. С.26.
[vi] Герцен А.И. Русские немцы и немецкие русские // Утопический социализм. — М., 1982. С.406.
[vii] Там же. С.402.
[viii] Бердяев Н.А. Русская идея. — М., 2000. С.86.
[ix] Глинка-Волжский А.С. Святая Русь и русское призвание // Славянофильство: pro et contra. — СПб., 2006. С.746.
[x] Бердяев Н.А. Русская идея. — М., 2000. С.88.
[xi] Христианство: словарь. — М., 1994. С.436.
[xii] Франк С.Л. Большевизм и коммунизм как духовные явления // Русское мировоззрение. — СПб., 1996. С.144.
[xiii] Струве П.Б. Россия // PATRIOTICA. Политика, культура, религия, социализм. – М.,1997. С.417.
[xiv] Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции // Собр.соч. — Париж, 1990. Т.4. С.243.
[xv] Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Из глубины: сб.ст. — М., 1991. С.36.
[xvi] Бердяев Н.А. Русская идея. — М., 2000. С.110.
[xvii] Там же. С.102.
[xviii] Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Из глубины: сб.ст. — М., 1991. С.70.
[xix] Струве П.Б. Познание революции и возрождение духа // PATRIOTICA. Политика, культура, религия, социализм. — М., 1997. С.437.
[xx] Федотов Г.П. Революция идет // Судьба и грехи России: избр.ст.: в 2 т. — СПб., 1991. Т.1. С.171.
[xxi] Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. — М., 2002. С.146.
[xxii] Там же. С.124.
[xxiii] Бердяев Н.А. Русская идея. — М., 2000. С.214.
[xxiv] Шафаревич И.Р. Две дороги к одному обрыву. — М., 2003. С.386.
[xxv] Хомяков А.С. О сельской общине // О старом и новом. — М., 1988. С.162.
[xxvi] Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. — СПб., 2002. С.130.
[xxvii] Бердяев Н.А. Судьба еврейства // Тайна Израиля. — СПб., 1993. С.311.
[xxviii] Шульгин В.В. Что нам в них не нравится. — СПб., 1992. С.44.
[xxix] Солженицин А.И. Двести лет вместе: в 2 т. — М., 2003. Т.2. С.60.
[xxx] Там же. С.59.
[xxxi] Там же. С.72.
[xxxii] Франк С.Л. Большевизм и коммунизм как духовные явления // Русское мировоззрение. — СПб., 1996. С.137-138.
[xxxiii] Пасманик Д.С. Чего же мы добиваемся? // Россия и евреи. — М., 2007. С.226.
[xxxiv] Там же. С.222.